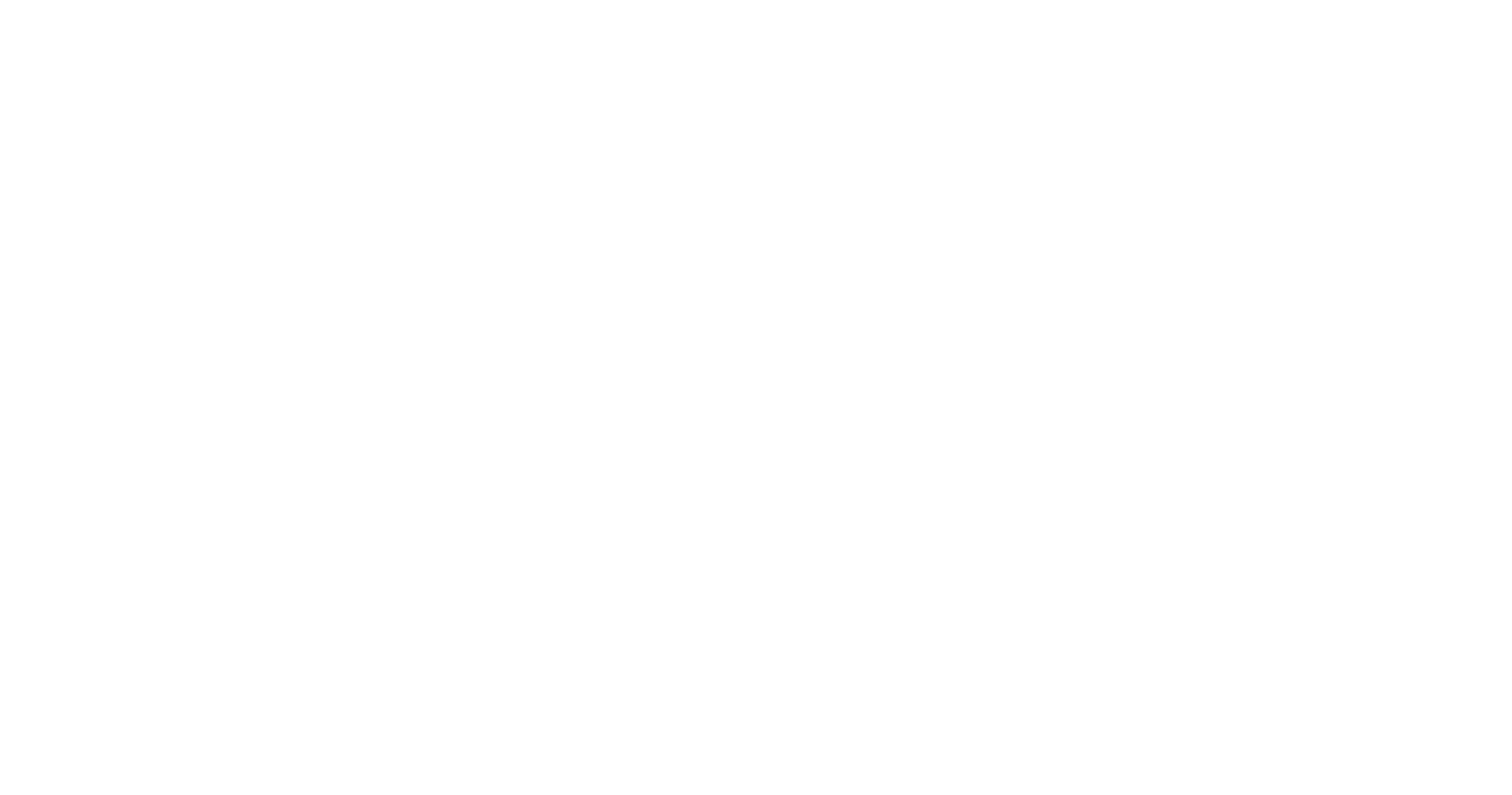карбонарии всех стран, соединяйтесь!
Короткое дыхание весны в Кемерово.
АИК Кузбасс (AIC Kuzbas)
АИК Кузбасс (AIC Kuzbas)
Проект, который был "слишком живым" для своей эпохи
В 2026 году исполняется 100 лет с прекращения деятельности АИК Кузбасс.
Российским хронологическим обществом к этой дате выпущена лимитированная серия из шести достопамятных билетов "АИК Кузбасс 1921-1926".
На них изображены портреты ключевых фигур, которые дали жизнь этому проекту: Владимир Ленин, Себальд Рутгерс, Йоханнес Бернардус ван Лохем, Билл Хейвуд и пророк будущих революций —Карл Маркс, который создал убедительную утопию, вдохновившую Ленина на яростную борьбу за власть: «История всех до сих пор существовавших обществ была история борьбы классов». Эта фраза открывает «Коммунистический манифест», и продолжает: "Революции — локомотивы истории».
Завершает серию билет с символом грядущего светлого будущего человечества — алой Звездой труда.
Почему "достопамятных"?
Устаревшее слово "достопамятный" означает «достойный быть запомненным» или «заслуживающий памяти».
В начале 20-х годов ХХ века на сибирской земле разыгралась действительно эпичная история: с мечтателями о быстром богатстве в поисках бешенных денег и наивными романтиками, которые приехали строить "город-сад" там, где шумит тайга; с интернациональными семьями и валютными зарплатами, которые портили настроение советским чиновникам: "Как это так!? Платить заокеанским гастарбайтерам зарплату баксами! Ради этого, что ли, мы лезли в 17-ом на решётку Зимнего?"
Слово старое, звучит как из дореволюционной канцелярии — но и сама АИК была странным гибридом: смесью мечты о справедливости и рабочем братстве и кошмаром ежедневных бюрократических препирательств с новой советской управленческой элитой.
Так что, да! Достопамятные. Ибо, заслужили.
Российским хронологическим обществом к этой дате выпущена лимитированная серия из шести достопамятных билетов "АИК Кузбасс 1921-1926".
На них изображены портреты ключевых фигур, которые дали жизнь этому проекту: Владимир Ленин, Себальд Рутгерс, Йоханнес Бернардус ван Лохем, Билл Хейвуд и пророк будущих революций —Карл Маркс, который создал убедительную утопию, вдохновившую Ленина на яростную борьбу за власть: «История всех до сих пор существовавших обществ была история борьбы классов». Эта фраза открывает «Коммунистический манифест», и продолжает: "Революции — локомотивы истории».
Завершает серию билет с символом грядущего светлого будущего человечества — алой Звездой труда.
Почему "достопамятных"?
Устаревшее слово "достопамятный" означает «достойный быть запомненным» или «заслуживающий памяти».
В начале 20-х годов ХХ века на сибирской земле разыгралась действительно эпичная история: с мечтателями о быстром богатстве в поисках бешенных денег и наивными романтиками, которые приехали строить "город-сад" там, где шумит тайга; с интернациональными семьями и валютными зарплатами, которые портили настроение советским чиновникам: "Как это так!? Платить заокеанским гастарбайтерам зарплату баксами! Ради этого, что ли, мы лезли в 17-ом на решётку Зимнего?"
Слово старое, звучит как из дореволюционной канцелярии — но и сама АИК была странным гибридом: смесью мечты о справедливости и рабочем братстве и кошмаром ежедневных бюрократических препирательств с новой советской управленческой элитой.
Так что, да! Достопамятные. Ибо, заслужили.
Более ста лет назад, в 1921 году, в Кремле случилась жаркая беседа восторженного голландского социалиста Себальда Рутгерса с Данко новой эры в истории человечества и "cтариком-броневиком" в одном лице — Владимиром Лениным ("старик" — партийная кличка Ленина; выступление Ленина на броневике 3 апреля 1917 года по прибытии в Петроград после возвращения из эмиграции стало в СССР одним из хрестоматийных художественных образов революции 1917 года).
Эту беседу Рутгерс позднее назовёт «самым важным разговором в жизни». Когда на крыльях мечты он вылетит из кабинета Ильича, в судьбе будущего Кемерово завяжется «плод», который до сих пор вызывает восхищение всех посвящённых — автономная индустриальная колония «Кузбасс» (АИК Кузбасс).
Ранее Рутгерс уже был знаком с Лениным.
В 1918 году он преодолел тысячи опасных километров на пути в Москву, заходя с Востока — через Японию и Тихий океан. Это было действительно смелое путешествие. Россия была в огне гражданской войны и анархо-бандитизма. На каждом полустанке была своя власть и просто доехать живым из Владивостока в Москву — это риск быть сто раз растреляным по подозрению в шпионаже или просто так — от скуки. К тому же, в те времена на всем протяжении транссибирской магистрали были рассеяны десятки тысяч белочехов, которые не могли вернуться из Сибири в Европу.
В Москве Рутгерс сумел попасть на самый верх большевистской власти. Был представлен Ленину. Понравился.
Главная ленинская мысль в те годы:
«Каждый день приносит известие, что то там, то здесь поднято красное знамя освобождения. На ваших глазах образовалась советская республика Венгрии, Советская Бавария, Третий, Коммунистический Интернационал, и вы в скором времени увидите, как образуется Всемирная Федеративная Республика Советов. Да здравствует Всемирная Федеративная Республика Советов!»
Впоследствии Рутгерсу доверили организовать амстердамское бюро Коминтерна и выделили на эти нужды 20 миллионов рублей драгоценными камнями.
Сумма, которая фигурирует в этой первой сцене "большого доверия, оказанного товарищу Рутгерсу", конечно условная. Каких рублей? Кто оценивал камни? Она позволяет "на глазок" оценить оказанное ему доверие как гигантское, а сумму как колоссальную.
Вся верхушка большевиков в первые послереволюционные годы — это люди с огромным опытом десятилетий "теневых" финансовых операций и ведения подпольной партийной кассы в условиях нелегальной работы как зарубежом, так и в царской России. Проще говоря — "паханы", долгие годы державшие партийный общак. Поэтому, было бы легкомысленно полагать, что "кремлёвские мечтатели" на эмоциях отсыпали Рутгерсу полные карманы камней из сокровищ Романовых—Юсуповых не глядя и без счёту, просто из личной симпатии. Всё было на учёте.
И, видимо, предоставленный впоследствии Рутгерсом отчёт о реализации этого первого транша создал ему имидж порядочного человека, что позволило впоследствии продолжить через его каналы финансировать уже масштабный промышленный проект — АИК Кузбасс.
Вечная беда России — санкции. После Октябрьского переворота 1917 года, в мире сложилось твёрдое мнение, что большевики — самозванцы и узурпатоты власти, поэтому в первые годы советской власти никаких официальных отношений с ними многие развитые страны не стали устанавливать. А вот крупный бизнес, наоборот, быстро почувствовал запах больших денег и новых возможностей.
Первой РСФСР признала Эстония — 2 февраля 1920 года, Германия — 16 апреля 1922, а главный будущий поставщик заводов "под ключ" — США — только 16 ноября 1933.
А стране позарез нужны были современные технологии, которых в России отродясь не было.
Вся пафосная статистика доблестного 1913 года — это пшеница, ситец и прочие товары для неизбалованных крестьян, на которых в ХХ век не въедешь. При правлении Романовых страна стала развитой колонией, а не державой с передовыми технологиями. И вот такое наследие досталось большевикам, которое ещё и раздербанили до винтика - до гаечки в годы гражданской войны.
При этом — деньги были. И не резанная бумага, а золото, камешки, предметы искусства. Новая власть умело реквизировала при каждом удобном случае всё ценное, на что падал её взгляд.
14 декабря 1917 года большевики приняли Декрет о государственной монополии на банковское дело, а вслед за этим, уже 27 декабря 1917 года (!), закрыли частные банки и начали их национализацию. Это сопровождалось вскрытием банковских ячеек и изъятием в пользу государства всех хранимых там ценностей.
И вот Ленин, глядя в честные глаза Рутгерса, поверил ему и приказал "отгрузить очередное ведро брюлликов", которые тот тайными тропами переправит в Голландию и там, через свои семейные связи, превратит в доллары и марки, на которые и будет закуплено оборудование для АИК Кузбасс.
Никаких личных капиталов ни Рутгерс, ни Хейвуд, ни другие заграничные энтузиасты в проект АИК не вкладывали. "За весь банкет" щедро платил Ленин.
Так родилась АИК Кузбасс.
Малышка росла бойкой и такой крикливой, что её вопли были слышны по всей миру — от фабричных районов Манчестера до американских университетов. Она быстро выросла и оформилась в статную красавицу: работящую, энергичную, но своенравную...
Жить ей на белом свете было отмерено всего полных четыре года (1921 год — не в счёт. Официальная регистрация АИК состоялась 22 декабря 1922 года) — короткий срок по меркам великих проектов.
Хотя, как говорится, посидели "родители" с огоньком: АИК оставила след не только в индустриальной истории Кемерово, но и в летописи глобальных социальных экспериментов всего человечества. Вот так они «попили чайку» — с блеском в глазах и предвкушением открывающихся перспектив модерации целого Мира: "А начнём-ка мы с Кемерово!".
Как точно заметил Корней Чуковский про этот возраст в своей книге «От трёх до пяти»:
«Дети — великие утописты. Они не признают границ возможного».
АИК тоже была ребёнком — наивным, дерзким, неудобным, неудержимым. Она хотела всего и сразу. И хотела по-настоящему. А если большие дяди ей в чём-то отказывали, то она закатывала им грандиозный скандал и бежала жаловаться не к кому-нибудь, а к самому дедушке-Ленину.
Но дедушка-Ленин ЗОЖ не соблюдал и в 1925 году, говорят не без участия товарищей по партии, откланялся всем пролетариям и убыл в известном направлении — стал эспонатом СССР №1 в мавзолее на Красной площади.
В жизни нашей героини наступила разительная перемена — жаловаться на произвол быстро обнаглевшей советской бюрократии стало некому и дни её были сочтены.
Так это вскоре и случилось. Решением-постановлением утверждаем: "А идите вы все на... назад!"
Уже обжившиеся в Сибири на советской земле, но как оказалось чуждые советской власти заграничные пролетарии, быстро собрали чемоданы и тронулись в обратный путь, а те немногие доверчивые романтики, которые остались работать уже в советском тресте "Кузбассуголь", вскоре попадут под каток ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление. Действовало с 1923 по 1934. В ОГПУ СССР была сосредоточена деятельность по борьбе с контрреволюцией, шпионажем, по обеспечению государственной безопасности и борьбе с чуждыми советской власти элементами. Правопреемник - НКВД СССР).
Эту беседу Рутгерс позднее назовёт «самым важным разговором в жизни». Когда на крыльях мечты он вылетит из кабинета Ильича, в судьбе будущего Кемерово завяжется «плод», который до сих пор вызывает восхищение всех посвящённых — автономная индустриальная колония «Кузбасс» (АИК Кузбасс).
Ранее Рутгерс уже был знаком с Лениным.
В 1918 году он преодолел тысячи опасных километров на пути в Москву, заходя с Востока — через Японию и Тихий океан. Это было действительно смелое путешествие. Россия была в огне гражданской войны и анархо-бандитизма. На каждом полустанке была своя власть и просто доехать живым из Владивостока в Москву — это риск быть сто раз растреляным по подозрению в шпионаже или просто так — от скуки. К тому же, в те времена на всем протяжении транссибирской магистрали были рассеяны десятки тысяч белочехов, которые не могли вернуться из Сибири в Европу.
В Москве Рутгерс сумел попасть на самый верх большевистской власти. Был представлен Ленину. Понравился.
Главная ленинская мысль в те годы:
«Каждый день приносит известие, что то там, то здесь поднято красное знамя освобождения. На ваших глазах образовалась советская республика Венгрии, Советская Бавария, Третий, Коммунистический Интернационал, и вы в скором времени увидите, как образуется Всемирная Федеративная Республика Советов. Да здравствует Всемирная Федеративная Республика Советов!»
Речь на первых московских советских командных курсах 15 апреля 1919 г.
Впоследствии Рутгерсу доверили организовать амстердамское бюро Коминтерна и выделили на эти нужды 20 миллионов рублей драгоценными камнями.
Сумма, которая фигурирует в этой первой сцене "большого доверия, оказанного товарищу Рутгерсу", конечно условная. Каких рублей? Кто оценивал камни? Она позволяет "на глазок" оценить оказанное ему доверие как гигантское, а сумму как колоссальную.
Вся верхушка большевиков в первые послереволюционные годы — это люди с огромным опытом десятилетий "теневых" финансовых операций и ведения подпольной партийной кассы в условиях нелегальной работы как зарубежом, так и в царской России. Проще говоря — "паханы", долгие годы державшие партийный общак. Поэтому, было бы легкомысленно полагать, что "кремлёвские мечтатели" на эмоциях отсыпали Рутгерсу полные карманы камней из сокровищ Романовых—Юсуповых не глядя и без счёту, просто из личной симпатии. Всё было на учёте.
И, видимо, предоставленный впоследствии Рутгерсом отчёт о реализации этого первого транша создал ему имидж порядочного человека, что позволило впоследствии продолжить через его каналы финансировать уже масштабный промышленный проект — АИК Кузбасс.
Вечная беда России — санкции. После Октябрьского переворота 1917 года, в мире сложилось твёрдое мнение, что большевики — самозванцы и узурпатоты власти, поэтому в первые годы советской власти никаких официальных отношений с ними многие развитые страны не стали устанавливать. А вот крупный бизнес, наоборот, быстро почувствовал запах больших денег и новых возможностей.
Первой РСФСР признала Эстония — 2 февраля 1920 года, Германия — 16 апреля 1922, а главный будущий поставщик заводов "под ключ" — США — только 16 ноября 1933.
А стране позарез нужны были современные технологии, которых в России отродясь не было.
Вся пафосная статистика доблестного 1913 года — это пшеница, ситец и прочие товары для неизбалованных крестьян, на которых в ХХ век не въедешь. При правлении Романовых страна стала развитой колонией, а не державой с передовыми технологиями. И вот такое наследие досталось большевикам, которое ещё и раздербанили до винтика - до гаечки в годы гражданской войны.
При этом — деньги были. И не резанная бумага, а золото, камешки, предметы искусства. Новая власть умело реквизировала при каждом удобном случае всё ценное, на что падал её взгляд.
14 декабря 1917 года большевики приняли Декрет о государственной монополии на банковское дело, а вслед за этим, уже 27 декабря 1917 года (!), закрыли частные банки и начали их национализацию. Это сопровождалось вскрытием банковских ячеек и изъятием в пользу государства всех хранимых там ценностей.
И вот Ленин, глядя в честные глаза Рутгерса, поверил ему и приказал "отгрузить очередное ведро брюлликов", которые тот тайными тропами переправит в Голландию и там, через свои семейные связи, превратит в доллары и марки, на которые и будет закуплено оборудование для АИК Кузбасс.
Никаких личных капиталов ни Рутгерс, ни Хейвуд, ни другие заграничные энтузиасты в проект АИК не вкладывали. "За весь банкет" щедро платил Ленин.
Так родилась АИК Кузбасс.
Малышка росла бойкой и такой крикливой, что её вопли были слышны по всей миру — от фабричных районов Манчестера до американских университетов. Она быстро выросла и оформилась в статную красавицу: работящую, энергичную, но своенравную...
Жить ей на белом свете было отмерено всего полных четыре года (1921 год — не в счёт. Официальная регистрация АИК состоялась 22 декабря 1922 года) — короткий срок по меркам великих проектов.
Хотя, как говорится, посидели "родители" с огоньком: АИК оставила след не только в индустриальной истории Кемерово, но и в летописи глобальных социальных экспериментов всего человечества. Вот так они «попили чайку» — с блеском в глазах и предвкушением открывающихся перспектив модерации целого Мира: "А начнём-ка мы с Кемерово!".
Как точно заметил Корней Чуковский про этот возраст в своей книге «От трёх до пяти»:
«Дети — великие утописты. Они не признают границ возможного».
АИК тоже была ребёнком — наивным, дерзким, неудобным, неудержимым. Она хотела всего и сразу. И хотела по-настоящему. А если большие дяди ей в чём-то отказывали, то она закатывала им грандиозный скандал и бежала жаловаться не к кому-нибудь, а к самому дедушке-Ленину.
Но дедушка-Ленин ЗОЖ не соблюдал и в 1925 году, говорят не без участия товарищей по партии, откланялся всем пролетариям и убыл в известном направлении — стал эспонатом СССР №1 в мавзолее на Красной площади.
В жизни нашей героини наступила разительная перемена — жаловаться на произвол быстро обнаглевшей советской бюрократии стало некому и дни её были сочтены.
Так это вскоре и случилось. Решением-постановлением утверждаем: "А идите вы все на... назад!"
Уже обжившиеся в Сибири на советской земле, но как оказалось чуждые советской власти заграничные пролетарии, быстро собрали чемоданы и тронулись в обратный путь, а те немногие доверчивые романтики, которые остались работать уже в советском тресте "Кузбассуголь", вскоре попадут под каток ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление. Действовало с 1923 по 1934. В ОГПУ СССР была сосредоточена деятельность по борьбе с контрреволюцией, шпионажем, по обеспечению государственной безопасности и борьбе с чуждыми советской власти элементами. Правопреемник - НКВД СССР).
АИК Кузбасс
- второе рождение Кемерово
История АИК читается не как бухгалтерский отчёт, а приключенческий роман.
Авантюрный, с тайным заговором в Кремле под зелёной лампой, циклопическими кораблями через Атлантику, изумрудами и бриллиантами, которые Рутгерс возил в саквояжах из Москвы в Амстердам какими-то заповедными тропами; амстердамской алмазной мафией и приземлением опиаренного пропагандой десанта интернационала карбонариев на край географии, с романтиками, инженерами, ингригами, любовными линиями, шахтами, лопатами, танцами, международной кухней и обязательным для этого жанра исчезновением всех героев на последних страницах.
Обычно автор на последних страницах даёт легкий намёк, что "их дальнейшая судьба ему неизвестна", тем самым оставляя возможность, если первый тираж окажется прибыльным, застолбить и второй сезон. В нашем случае всё было решено окончательно и бесповоротно.
Пять лет — и всё. Безжалостные финальные титры. Экспедиция в утопию закончилась слишком быстро. Осталась вывернутая наизнанку поверхность земли и невидимое: мечты, радости, слёзы — смыслы.
Глава про АИК — самая странная в летописи Кемерово. И самая кинематографичная. Ракурсы, реплики, коллизии. Интернационал в валенках. Электричество и наивность. Уголь и страсть. Эффектная фактура для волнующей драмы. А если ещё добавить курсивом эпизод, что всего-то два года назад — в декабре 1919 года здесь — в селе Щеглово — встретились и изрядно потрепали друг друга три силы: партизаны-анархисты роговцы, регулярные войска большевиков и бегущие колчаковцы, то получится настоящий блокбастер.
Представьте! Белая вьюга, тлеющие костры гражданской войны и вдруг перекадровка — непонятно откуда появившиеся иностранцы в модных пальто и ботиночках на тоненькой подошве с добротными чемоданами на деревенских подводах, которыми правят бородатые мужики в тулупах с вонючими самокрутками в зубах; с энциклопедиями, семенами тыквы и кабачков и охапками чертежей в замерзающих пальцах. Сюжет будто снят Эйзенштейном напару с Кустурицей. В одном кадре — шахта, в следующем — патефон и горячие танцы; электрик из Детройта чинит генератор и толкует русскому товарищу "про слабый контакт" исключительно языком жестов , а библиотекарь из Сан-Франциско объясняет Марусе под одеялом, что такое миссионерская позиция и почему он — "миссионер по призванию". Действие разворачивается на фоне сурового пейзажа в стиле «фронтир», только не на Диком Западе, а в Западной Сибири.
И всё это на чём-то держится, работает, скрипит, пердит, но упорно двигается вперёд. По ночам в клубе выступают про наступающий на пятки карбонариям коммунизм. А под столом кто-то держит в своей руке трепетную соседскую руку. Горячую как мечта о прекрасном будущем. Иногда — впервые в жизни.
Формально, по бумагам и постановлению СТО (Совет Труда и Обороны СССР), это была «промышленная колония».
Простая логика целесообразности: если есть уголь — значит его нужно выкопать. Нужны рабочие, лопаты, график, вагонетки, план по добыче и пара бараков, чтобы трудящиеся не замерзли под открытым сибирским небом. Экономика без общества, производство без среды. Всё чётко, технично и сугубо функционально. Без поэтических отклонений в виде культуры театра и теплых туалетов.
Но АИК быстро вышла из этого жанра необходимой достаточности. Точнее — вырвалась, как молодая дерзкая героиня из роли второго плана на заглавные титры, отодвинув в сторону удивлённую таким неожиданным поворотом избалованную кинодиву. Сценарий быстро, на коленках переписали.
Было: промышленная — значит, добывай.
Стало: индустриальная — значит, живи.
АИК практически с момента своего рождения перестала быть «промышленной». Она выросла в индустриальную колонию — в куда более сложный организм. Здесь одновременно работали шахты и фермы, библиотека и суд, ремонтный цех и самодеятельный театр. Здесь обучали грамоте, выращивали капусту, лечили дизентерию и обсуждали, сколько процентов бюджета можно отдать на закупку аккордеонов.
Это была живая индустрия: не бездушный цех, а новая форма общественной жизни.
Не цех в поле, а город в процессе становления. Промышленная логика требовала угля. Индустриальная — людей, улиц, слов, памяти и любви. Вся эта "лирика", по мнению партийцев, отвлекала трудящихся от того, зачем они сюда и приехали — делать "десять замесов в смену". Советская власть была не в восторге от такой перемены и ,как могла, пыталась поставить руководство АИК "на место".
Здесь впервые появлется город — не на нафантазированном чертеже Парамонова, который скопировал картинку Версальского парка и наложил её на нашу лысую реальность, а город как процесс. Сначала землянки — потом бараки, дальше — улицы с названиями. Сначала мастерская — потом самоуправление. Сначала — «приехали на год», а потом — «похоже, навсегда».
И это, пожалуй, главное, что случилось в судьбе будущего Кемерово.
Он стал городом не на бумаге.
Авантюрный, с тайным заговором в Кремле под зелёной лампой, циклопическими кораблями через Атлантику, изумрудами и бриллиантами, которые Рутгерс возил в саквояжах из Москвы в Амстердам какими-то заповедными тропами; амстердамской алмазной мафией и приземлением опиаренного пропагандой десанта интернационала карбонариев на край географии, с романтиками, инженерами, ингригами, любовными линиями, шахтами, лопатами, танцами, международной кухней и обязательным для этого жанра исчезновением всех героев на последних страницах.
Обычно автор на последних страницах даёт легкий намёк, что "их дальнейшая судьба ему неизвестна", тем самым оставляя возможность, если первый тираж окажется прибыльным, застолбить и второй сезон. В нашем случае всё было решено окончательно и бесповоротно.
Пять лет — и всё. Безжалостные финальные титры. Экспедиция в утопию закончилась слишком быстро. Осталась вывернутая наизнанку поверхность земли и невидимое: мечты, радости, слёзы — смыслы.
Глава про АИК — самая странная в летописи Кемерово. И самая кинематографичная. Ракурсы, реплики, коллизии. Интернационал в валенках. Электричество и наивность. Уголь и страсть. Эффектная фактура для волнующей драмы. А если ещё добавить курсивом эпизод, что всего-то два года назад — в декабре 1919 года здесь — в селе Щеглово — встретились и изрядно потрепали друг друга три силы: партизаны-анархисты роговцы, регулярные войска большевиков и бегущие колчаковцы, то получится настоящий блокбастер.
Представьте! Белая вьюга, тлеющие костры гражданской войны и вдруг перекадровка — непонятно откуда появившиеся иностранцы в модных пальто и ботиночках на тоненькой подошве с добротными чемоданами на деревенских подводах, которыми правят бородатые мужики в тулупах с вонючими самокрутками в зубах; с энциклопедиями, семенами тыквы и кабачков и охапками чертежей в замерзающих пальцах. Сюжет будто снят Эйзенштейном напару с Кустурицей. В одном кадре — шахта, в следующем — патефон и горячие танцы; электрик из Детройта чинит генератор и толкует русскому товарищу "про слабый контакт" исключительно языком жестов , а библиотекарь из Сан-Франциско объясняет Марусе под одеялом, что такое миссионерская позиция и почему он — "миссионер по призванию". Действие разворачивается на фоне сурового пейзажа в стиле «фронтир», только не на Диком Западе, а в Западной Сибири.
И всё это на чём-то держится, работает, скрипит, пердит, но упорно двигается вперёд. По ночам в клубе выступают про наступающий на пятки карбонариям коммунизм. А под столом кто-то держит в своей руке трепетную соседскую руку. Горячую как мечта о прекрасном будущем. Иногда — впервые в жизни.
Формально, по бумагам и постановлению СТО (Совет Труда и Обороны СССР), это была «промышленная колония».
Простая логика целесообразности: если есть уголь — значит его нужно выкопать. Нужны рабочие, лопаты, график, вагонетки, план по добыче и пара бараков, чтобы трудящиеся не замерзли под открытым сибирским небом. Экономика без общества, производство без среды. Всё чётко, технично и сугубо функционально. Без поэтических отклонений в виде культуры театра и теплых туалетов.
Но АИК быстро вышла из этого жанра необходимой достаточности. Точнее — вырвалась, как молодая дерзкая героиня из роли второго плана на заглавные титры, отодвинув в сторону удивлённую таким неожиданным поворотом избалованную кинодиву. Сценарий быстро, на коленках переписали.
Было: промышленная — значит, добывай.
Стало: индустриальная — значит, живи.
АИК практически с момента своего рождения перестала быть «промышленной». Она выросла в индустриальную колонию — в куда более сложный организм. Здесь одновременно работали шахты и фермы, библиотека и суд, ремонтный цех и самодеятельный театр. Здесь обучали грамоте, выращивали капусту, лечили дизентерию и обсуждали, сколько процентов бюджета можно отдать на закупку аккордеонов.
Это была живая индустрия: не бездушный цех, а новая форма общественной жизни.
Не цех в поле, а город в процессе становления. Промышленная логика требовала угля. Индустриальная — людей, улиц, слов, памяти и любви. Вся эта "лирика", по мнению партийцев, отвлекала трудящихся от того, зачем они сюда и приехали — делать "десять замесов в смену". Советская власть была не в восторге от такой перемены и ,как могла, пыталась поставить руководство АИК "на место".
Здесь впервые появлется город — не на нафантазированном чертеже Парамонова, который скопировал картинку Версальского парка и наложил её на нашу лысую реальность, а город как процесс. Сначала землянки — потом бараки, дальше — улицы с названиями. Сначала мастерская — потом самоуправление. Сначала — «приехали на год», а потом — «похоже, навсегда».
И это, пожалуй, главное, что случилось в судьбе будущего Кемерово.
Он стал городом не на бумаге.
Производство в АИК Кузбасс не жрало человека, а встраивалось в его биографию.
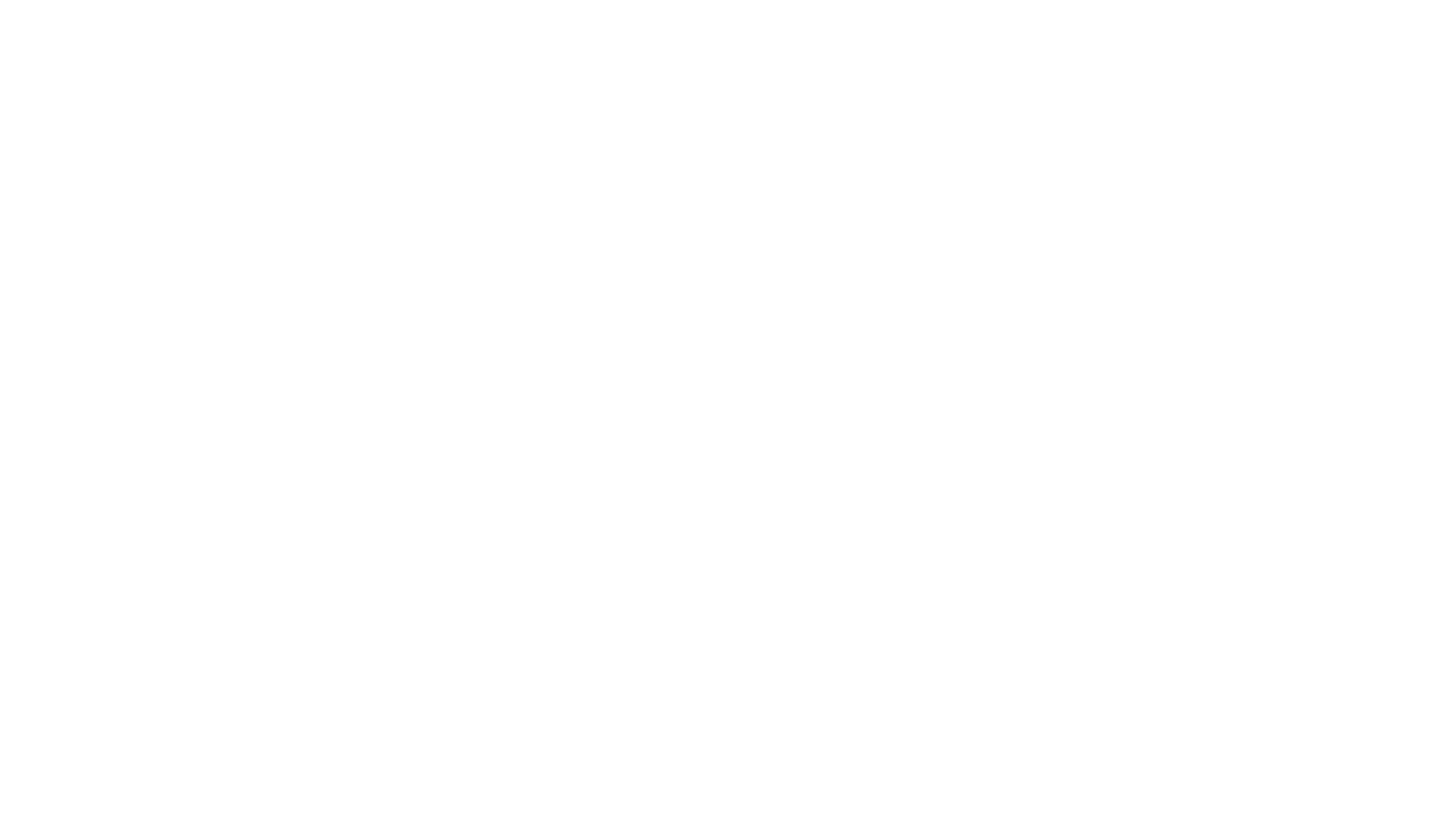
Из дневника Мириам Ван Ден Берг, агронома из Нидерландов: «Женщины в колонии не только варят суп и учат детей. Мы прокладываем ирригационные канавы, мы ведём записи по урожаю, мы обучаем русских девушек вести счёт в амбарной книге. Я никогда раньше не чувствовала себя нужной — как здесь...
Мы доим коров и чиним тракторы, убираем картофель и чертим планы для новых домиков. Здесь женщина — инженер и мать, строитель и организатор. Никто не смотрит на нас свысока, всё зависит от наших рук."
Колония не только восстанавливала угольные шахты, но и создавала самодостаточную инфраструктуру. В АИК были сельхозугодья, скот, механизированные фермы, обучающие мастерские. Для своих нужд производилось почти всё — от хлеба до одежды. Это была полноценная экосистема, включающая в себя как индустриальные, так и сельскохозяйственные, коммунальные и культурные сферы.
И если сегодня это называют «циркулярной экономикой», «устойчивым развитием» или «горизонтальной кооперацией», то тогда это называлось просто: «наше общее дело».
Сто лет назад это была революционная практика. Добавим к этому активное участие женщин: в колонии работали женские артели, их вовлекали в управление, производство, планирование.
Женщины в Америке в те годы маршировали за право голосовать, учиться, распоряжаться собой — и были далеки от мысли, что в Сибири это можно просто… делать. Без манифестаций, без лозунгов, без разрешения сверху.
В АИК женщина не была украшением вечера после работы и кухонным комбайном в одну человеческую силу. Здесь она могла стать мастером, бухгалтером, агрономом, акушеркой, лидером артели. Не как исключение, а как норма. Не как подвиг, а как будни.
Мириам из Нидерландов, Молли из Нью-Йорка, Маруся с Обского тракта — все они доили коров и чинили карбюраторы, считали зарплаты, контролировали санитарные нормы и вели переписку на трёх языках. Они стали соучредительницами новой жизни.
И, возможно, именно в этом и заключалась одна из самых радикальных идей АИК — тишком, между капустой и шахтами, в Сибири развернулся первый интернациональный эксперимент, где женщина не просила, а просто брала своё. Потому что может.
Женщина стала человеком!
И, кстати, в постели — тоже.
Мы доим коров и чиним тракторы, убираем картофель и чертим планы для новых домиков. Здесь женщина — инженер и мать, строитель и организатор. Никто не смотрит на нас свысока, всё зависит от наших рук."
Колония не только восстанавливала угольные шахты, но и создавала самодостаточную инфраструктуру. В АИК были сельхозугодья, скот, механизированные фермы, обучающие мастерские. Для своих нужд производилось почти всё — от хлеба до одежды. Это была полноценная экосистема, включающая в себя как индустриальные, так и сельскохозяйственные, коммунальные и культурные сферы.
И если сегодня это называют «циркулярной экономикой», «устойчивым развитием» или «горизонтальной кооперацией», то тогда это называлось просто: «наше общее дело».
Сто лет назад это была революционная практика. Добавим к этому активное участие женщин: в колонии работали женские артели, их вовлекали в управление, производство, планирование.
Женщины в Америке в те годы маршировали за право голосовать, учиться, распоряжаться собой — и были далеки от мысли, что в Сибири это можно просто… делать. Без манифестаций, без лозунгов, без разрешения сверху.
В АИК женщина не была украшением вечера после работы и кухонным комбайном в одну человеческую силу. Здесь она могла стать мастером, бухгалтером, агрономом, акушеркой, лидером артели. Не как исключение, а как норма. Не как подвиг, а как будни.
Мириам из Нидерландов, Молли из Нью-Йорка, Маруся с Обского тракта — все они доили коров и чинили карбюраторы, считали зарплаты, контролировали санитарные нормы и вели переписку на трёх языках. Они стали соучредительницами новой жизни.
И, возможно, именно в этом и заключалась одна из самых радикальных идей АИК — тишком, между капустой и шахтами, в Сибири развернулся первый интернациональный эксперимент, где женщина не просила, а просто брала своё. Потому что может.
Женщина стала человеком!
И, кстати, в постели — тоже.
“
Еда была обильной и хорошо приготовленной, хотя питание — слишком крахмалисто… Те, кто предпочитает готовить сам, получали пайки на десять дней. Мыло и табак выдавались по нормам. Все члены колонии, кроме детей и матерей с младенцами, должны были работать. Взамен получали еду, жильё, зимнюю одежду — шапки, варежки, валенки. В общественной прачечной стирали по десяти вещам в неделю на человека. В обувной мастерской чинили сапоги. Мы обходились практически без денег.
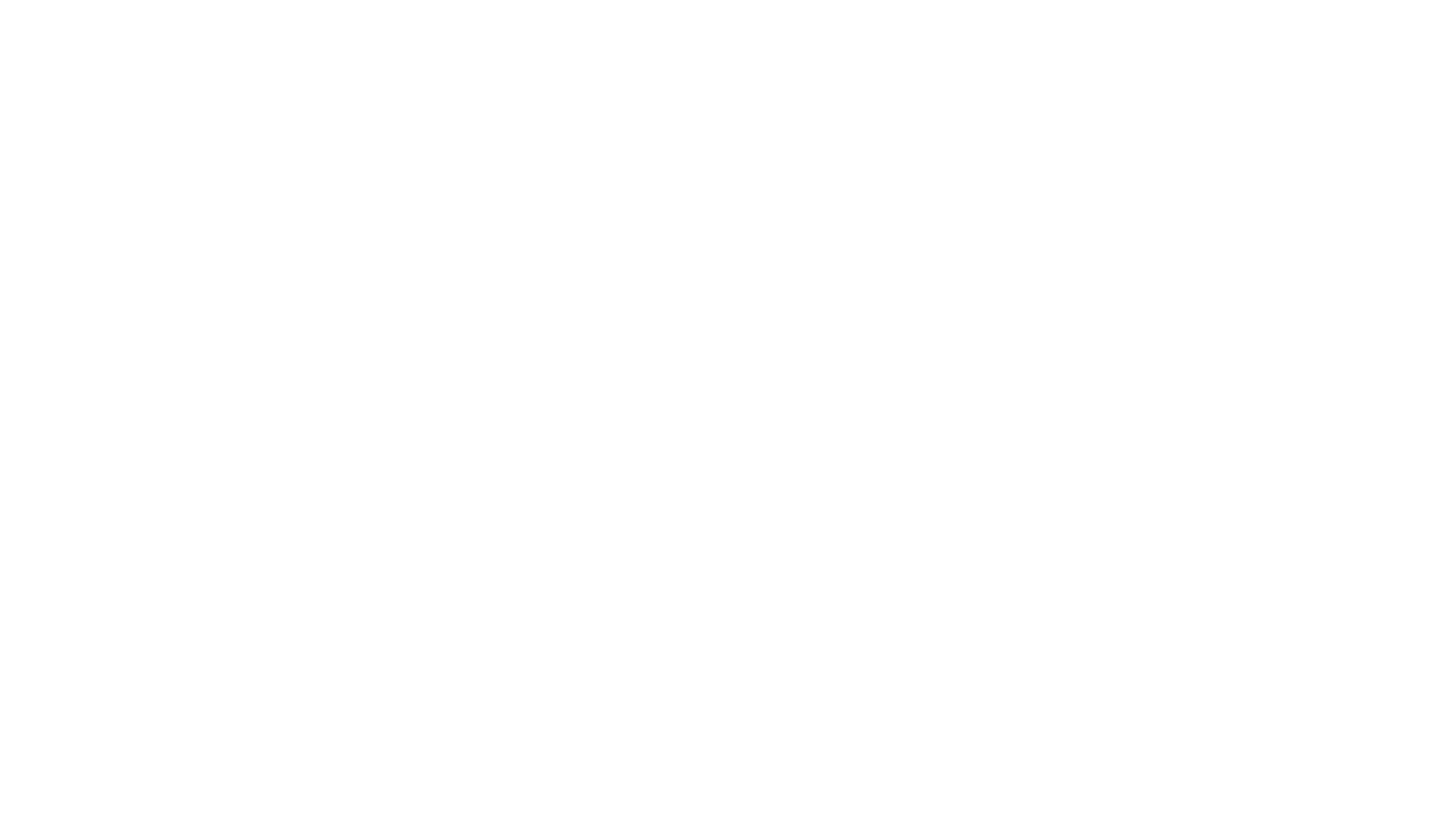
В отчёте Рутгерса от 1924 года читаем: «Каждое важное решение в колонии обсуждается публично. Мы настаиваем, что только рабочее самоуправление может дать устойчивый результат. Люди чувствуют себя частью проекта. Они не подчиняются — они участвуют...
Самоуправление в колонии — не абстракция. Мы имеем советы, где каждый может высказаться, и принимаем решения вместе. Это школа гражданской зрелости, которую не построишь указом сверху."
АИК строилась как автономное сообщество. У неё были свои внутренние правила, бухгалтерия, обмен труда, даже валютные механизмы — временами колония печатала свои талоны для внутреннего расчёта. Это вызывает параллели с современными децентрализованными автономными организациями (DAO) — цифровыми сообществами, которые управляются по принципу консенсуса участников, с прозрачной логикой решений и горизонтальным устройством. Колония — это живой пример, как возможно выстроить производство и быт не сверху вниз, а на принципах участия всех "маленьких винтиков" в большом деле.
Самоуправление в колонии — не абстракция. Мы имеем советы, где каждый может высказаться, и принимаем решения вместе. Это школа гражданской зрелости, которую не построишь указом сверху."
АИК строилась как автономное сообщество. У неё были свои внутренние правила, бухгалтерия, обмен труда, даже валютные механизмы — временами колония печатала свои талоны для внутреннего расчёта. Это вызывает параллели с современными децентрализованными автономными организациями (DAO) — цифровыми сообществами, которые управляются по принципу консенсуса участников, с прозрачной логикой решений и горизонтальным устройством. Колония — это живой пример, как возможно выстроить производство и быт не сверху вниз, а на принципах участия всех "маленьких винтиков" в большом деле.
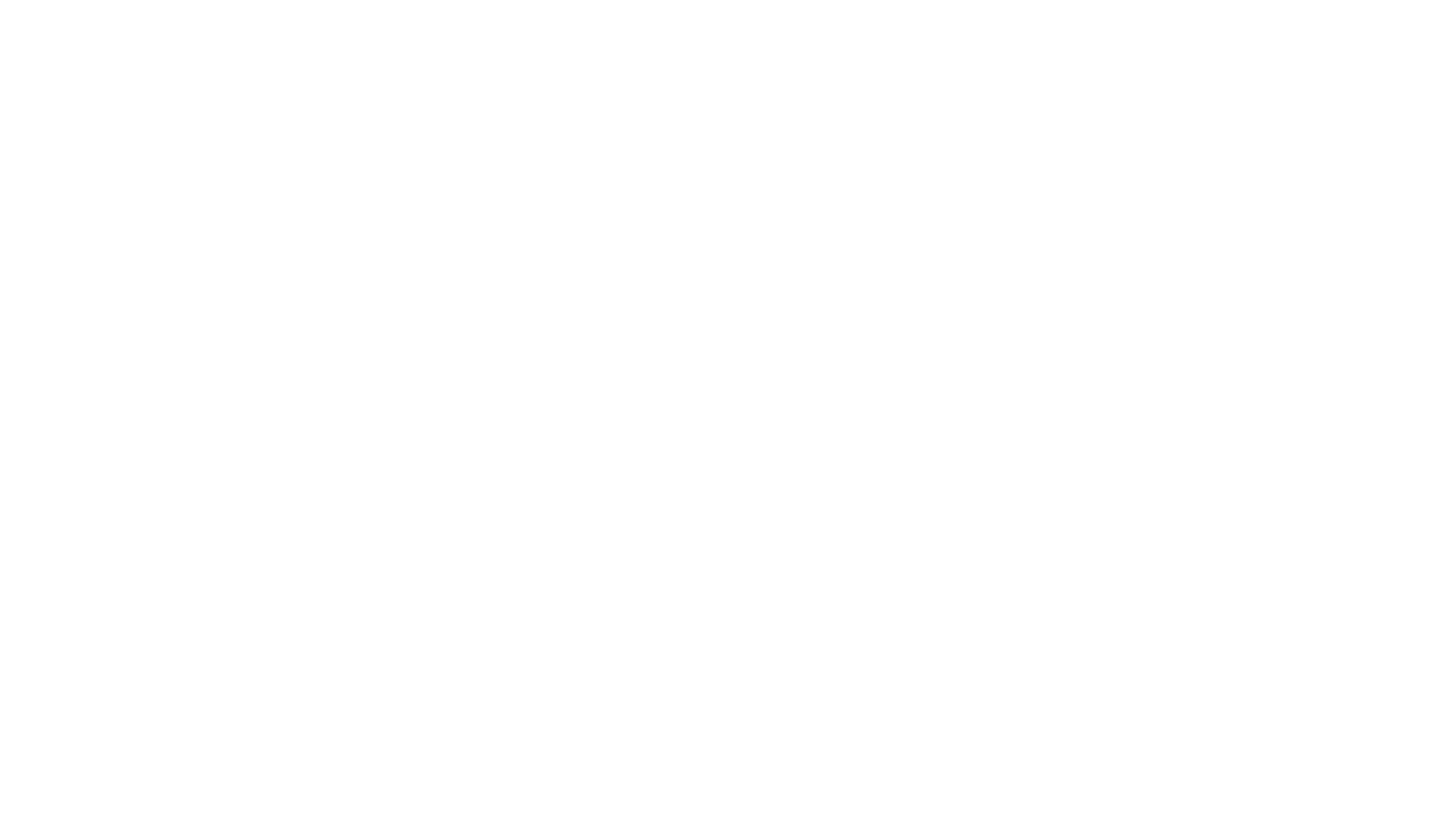
В одном из писем молодой американский техник Джон Крисман писал родителям:
«Я преподаю физику ребятам, которые вчера умели только копать. Один из них впервые собрал генератор — и понял, как работает электричество. Мне кажется, это важнее любого патента».
А вот воспоминания уже с другой стороны — один из молодых русских рабочих, ученик школы колонии, позже рассказывал:
«Я не только впервые спустился в шахту, но и впервые держал в руках англо-русский словарь. Мой учитель был электрик из Детройта. Он говорил с акцентом, но с душой — я понял, что знание не имеет границ».
Допотопный Кемерово — и это не для красного словца, а почти буквальное описание его жизни в ветхозаветном духе — в одночасье наполнился вайбами Голландии, Детройта, Нью-Йорка. На фоне шахт и вагонеток появились театральные постановки, настенные газеты на английском, библиотека с американскими брошюрами и французской прозой. Танцы. Клубные вечера. И, конечно, секс с иностранцами — кому-то в комсомольском комитете это казалось безнравственным, но многим — шагом к другой, реальной, плотской культуре, в которой свобода была не лозунгом на красной тряпке, а нормальной взрослой жизнью — без дедовских "деревенских" табу, с ощущением свободы решать самостоятельно — где, когда и с кем «можно».
Колония была пронизана идеей «учись и учи»: обучение шахтёрскому делу, инженерии, работе с машинами, иностранным языкам, бухгалтерии, самоуправлению. Это была образовательная революция. Учеба происходила прямо на месте, без деления на теорию и практику. Только что ты махал лопатой — и вот уже рисуешь схему двигателя. Недавно считал пайки — и вот уже ставишь подпись под проектом водопровода.
«Я преподаю физику ребятам, которые вчера умели только копать. Один из них впервые собрал генератор — и понял, как работает электричество. Мне кажется, это важнее любого патента».
А вот воспоминания уже с другой стороны — один из молодых русских рабочих, ученик школы колонии, позже рассказывал:
«Я не только впервые спустился в шахту, но и впервые держал в руках англо-русский словарь. Мой учитель был электрик из Детройта. Он говорил с акцентом, но с душой — я понял, что знание не имеет границ».
Допотопный Кемерово — и это не для красного словца, а почти буквальное описание его жизни в ветхозаветном духе — в одночасье наполнился вайбами Голландии, Детройта, Нью-Йорка. На фоне шахт и вагонеток появились театральные постановки, настенные газеты на английском, библиотека с американскими брошюрами и французской прозой. Танцы. Клубные вечера. И, конечно, секс с иностранцами — кому-то в комсомольском комитете это казалось безнравственным, но многим — шагом к другой, реальной, плотской культуре, в которой свобода была не лозунгом на красной тряпке, а нормальной взрослой жизнью — без дедовских "деревенских" табу, с ощущением свободы решать самостоятельно — где, когда и с кем «можно».
Колония была пронизана идеей «учись и учи»: обучение шахтёрскому делу, инженерии, работе с машинами, иностранным языкам, бухгалтерии, самоуправлению. Это была образовательная революция. Учеба происходила прямо на месте, без деления на теорию и практику. Только что ты махал лопатой — и вот уже рисуешь схему двигателя. Недавно считал пайки — и вот уже ставишь подпись под проектом водопровода.
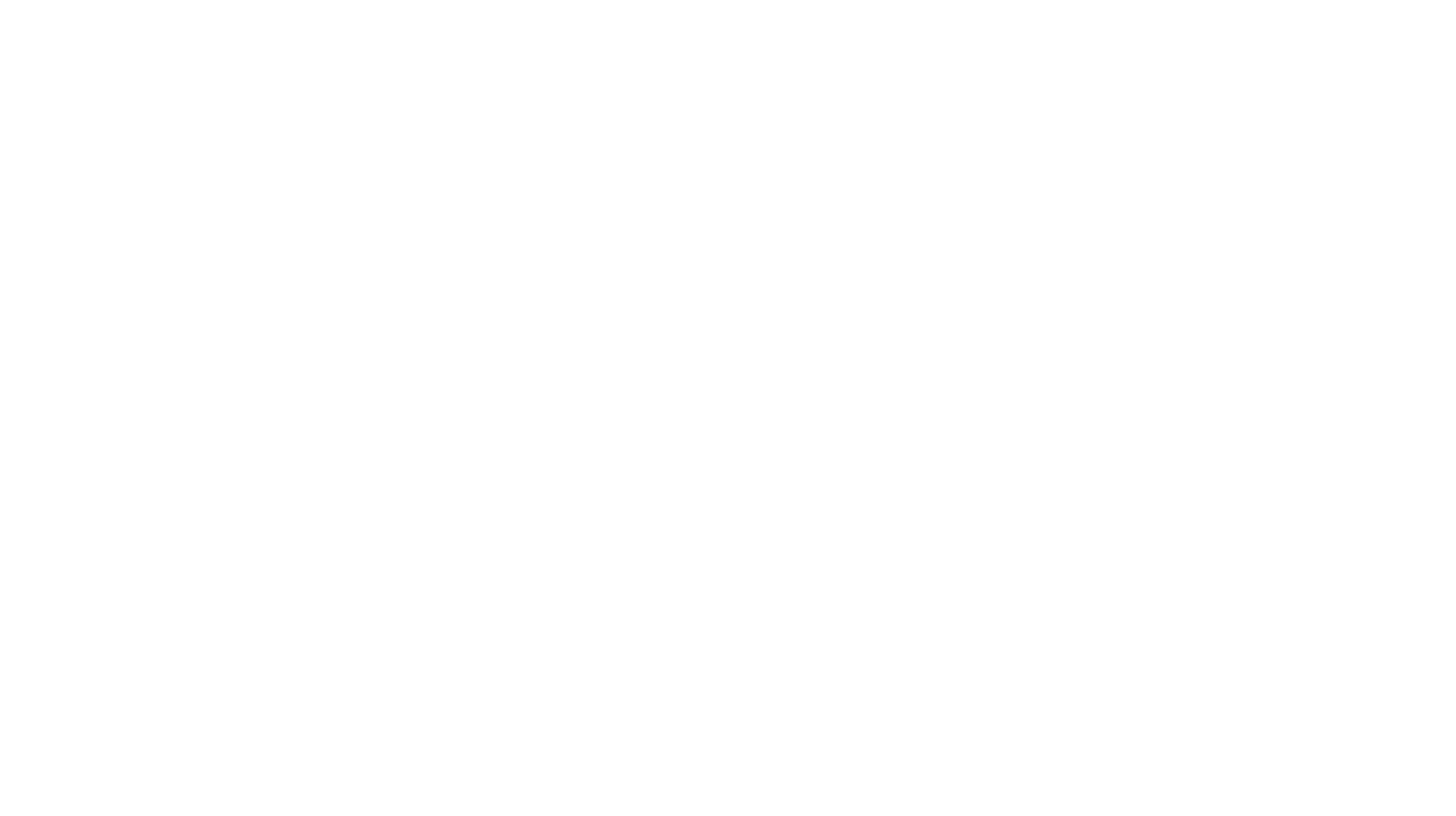
Большевистская Россия начала 1920-х годов находилась в агонии. Страна выгорела в огне Гражданской войны, истекала кровью от ран Первой мировой, а сверху нависал новый кошмар — голод. По разбитым дорогам бродили стаи беспризорников, по городам — эпидемии, по деревням — отчаяние. В промышленности — полный паралич. Топливный кризис достиг такого накала, что стратегическим ресурсом стали дрова. Уголь исчез.
В отчаянии искали любые решения. В 1920 году Ленин настолько вдохновился идеей зубного врача Равиковича о переработке сосновых шишек в топливо, что даже подписал приказ о создании организации с издевательски поэтичным названием — «Главшишка». Проект загнулся, не начавшись: сосновый крекинг оказался слишком дорогим и неудобным даже для революционного энтузиазма. Но это многое говорит о духе времени: страну нужно было спасать хоть шишками — лишь бы не умереть от холода и голода.
Топливо нужно было срочно. В 1921 году, когда канонада Гражданской начала стихать, большевики сделали ставку на Кузбасс — угольную жилу западной Сибири, ещё с дореволюционных времён известную как перспективный промышленный кластер. Но шахты лежали в руинах. Ни специалистов, ни техники, ни инфраструктуры — только уголь под землёй и снег на поверхности.
И тут, как в сказке, появляются они: американцы, англичане, французы, немцы. Люди, которых выбросило из Европы и США волной безработицы, экономических депрессий, авантюризма или социалистических надежд. Некоторые приехали в Советскую Россию за мечтой, другие — за "длинным долларом".
«Мы, американцы, строим здесь не новую Атлантиду, а новую Пенсильванию», — писала из Сибири Рут Эпперсон Кеннелл, библиотекарь из Сан-Франциско, ставшая одним из голосов колонии. Вместе с мужем она прибыла в Кузбасс в начале 1920-х и оказалась в самом сердце уральско-сибирской промышленной революции.
Однако, реальность встречи разных культур часто была не в "розовых очках" и не в "белых перчатках".
В отчаянии искали любые решения. В 1920 году Ленин настолько вдохновился идеей зубного врача Равиковича о переработке сосновых шишек в топливо, что даже подписал приказ о создании организации с издевательски поэтичным названием — «Главшишка». Проект загнулся, не начавшись: сосновый крекинг оказался слишком дорогим и неудобным даже для революционного энтузиазма. Но это многое говорит о духе времени: страну нужно было спасать хоть шишками — лишь бы не умереть от холода и голода.
Топливо нужно было срочно. В 1921 году, когда канонада Гражданской начала стихать, большевики сделали ставку на Кузбасс — угольную жилу западной Сибири, ещё с дореволюционных времён известную как перспективный промышленный кластер. Но шахты лежали в руинах. Ни специалистов, ни техники, ни инфраструктуры — только уголь под землёй и снег на поверхности.
И тут, как в сказке, появляются они: американцы, англичане, французы, немцы. Люди, которых выбросило из Европы и США волной безработицы, экономических депрессий, авантюризма или социалистических надежд. Некоторые приехали в Советскую Россию за мечтой, другие — за "длинным долларом".
«Мы, американцы, строим здесь не новую Атлантиду, а новую Пенсильванию», — писала из Сибири Рут Эпперсон Кеннелл, библиотекарь из Сан-Франциско, ставшая одним из голосов колонии. Вместе с мужем она прибыла в Кузбасс в начале 1920-х и оказалась в самом сердце уральско-сибирской промышленной революции.
Однако, реальность встречи разных культур часто была не в "розовых очках" и не в "белых перчатках".
“
Если раньше курение в определенных местах запрещалось, то теперь некоторые молодые люди считали, что каждый классово сознательный рабочий и комсомолец обязан появляться на собраниях, дымя сразу четырьмя папиросами, презирать всякую антитабачную и антиалкогольную пропаганду. Если в буржуазных кругах были приняты хорошие манеры, рассуждали они, значит, пролетарий должен вести себя грубее прежнего, ни за что не снимать шапку в помещении и плевать на пол… Это относилось не только к поведению вообще, но и к любовным делам. Поскольку в разгар борьбы было не до амуров, теперь настоящему революционеру-любовнику незачем пускаться в изысканные ухаживания, он сразу переходит к сути, а девушку, которая противится грубым словам и «лапанью», обвиняют в неспособности преодолеть мещанские предрассудки.
Из выступления Джона Тучельского, первого мэра колонии:
«Мы доказали, что можно построить город из шахтёрских бараков. Не за счёт принуждения, а за счёт солидарности и уважения к труду. Мы строили не просто дома, мы строили уважение между нациями».
Это не метафора. Город и правда возникал буквально из ничего: пустыри, странные люди живущие в землянках, которые называли друг друга «товарищами», даже если не могли выговорить это слово. Всё остальное — стены, мастерские, ангары, фермы, водопровод, театр, столовая, клуб, утренние линейки и вечерние репетиции — было придумано, нарисовано, сварено, построено прямо на глазах.
А потом — исчезло. Не сразу, но будто в ускоренной обратной перемотке. Сначала уехали иностранцы. Потом закрыли газету. Потом разобрали теплицы, сменили таблички. Город остался — но как будто бы выцвел. Здания и улицы — вот они, здесь, но дух исчез. Слово «колония» стало неловким и даже стыдным. Мечта — архивной.
Вскоре все упоминания об АИК вычеркнут из истории Кузбасса как нечто неприличное: "Сами справиться не могли. Понаприглашали всяких разных, да вовремя одумались". Только через 50 лет — в 70-е годы, стараниями энтузиастов-краеведов, тема обретёт Память.
Сегодня на этих местах — тишина. Где были танцы, клубы, демонстрации, теперь — заброшка и заколоченные окна, которые "тают" на глазах. Призраки АИК. И странное чувство: когда-то здесь что-то пытались создать. Не просто строили — сочиняли новую жизнь. И ведь почти получилось.
«Мы доказали, что можно построить город из шахтёрских бараков. Не за счёт принуждения, а за счёт солидарности и уважения к труду. Мы строили не просто дома, мы строили уважение между нациями».
Это не метафора. Город и правда возникал буквально из ничего: пустыри, странные люди живущие в землянках, которые называли друг друга «товарищами», даже если не могли выговорить это слово. Всё остальное — стены, мастерские, ангары, фермы, водопровод, театр, столовая, клуб, утренние линейки и вечерние репетиции — было придумано, нарисовано, сварено, построено прямо на глазах.
А потом — исчезло. Не сразу, но будто в ускоренной обратной перемотке. Сначала уехали иностранцы. Потом закрыли газету. Потом разобрали теплицы, сменили таблички. Город остался — но как будто бы выцвел. Здания и улицы — вот они, здесь, но дух исчез. Слово «колония» стало неловким и даже стыдным. Мечта — архивной.
Вскоре все упоминания об АИК вычеркнут из истории Кузбасса как нечто неприличное: "Сами справиться не могли. Понаприглашали всяких разных, да вовремя одумались". Только через 50 лет — в 70-е годы, стараниями энтузиастов-краеведов, тема обретёт Память.
Сегодня на этих местах — тишина. Где были танцы, клубы, демонстрации, теперь — заброшка и заколоченные окна, которые "тают" на глазах. Призраки АИК. И странное чувство: когда-то здесь что-то пытались создать. Не просто строили — сочиняли новую жизнь. И ведь почти получилось.
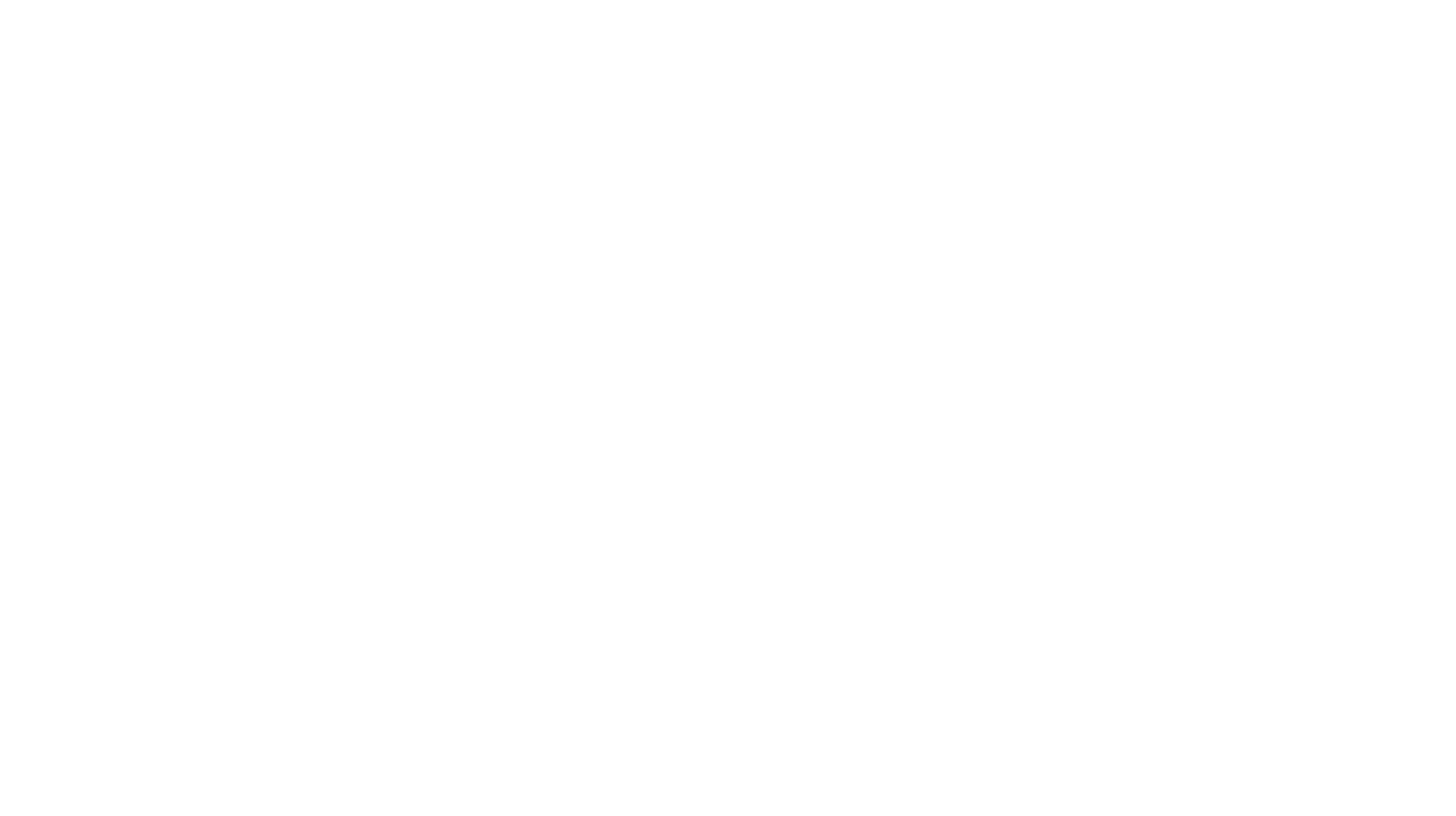
“
Мы наблюдали жестокую трагедию разрушенных надежд, горькое разочарование теоретиков, столкнувшихся с реальностью… После окончательного отъезда из Кузбасса мы назвали всё это “прекрасным, переливающимся пузырём, который лопнул".
Достопамятные билеты "АИК Кузбасс 1921-1926"