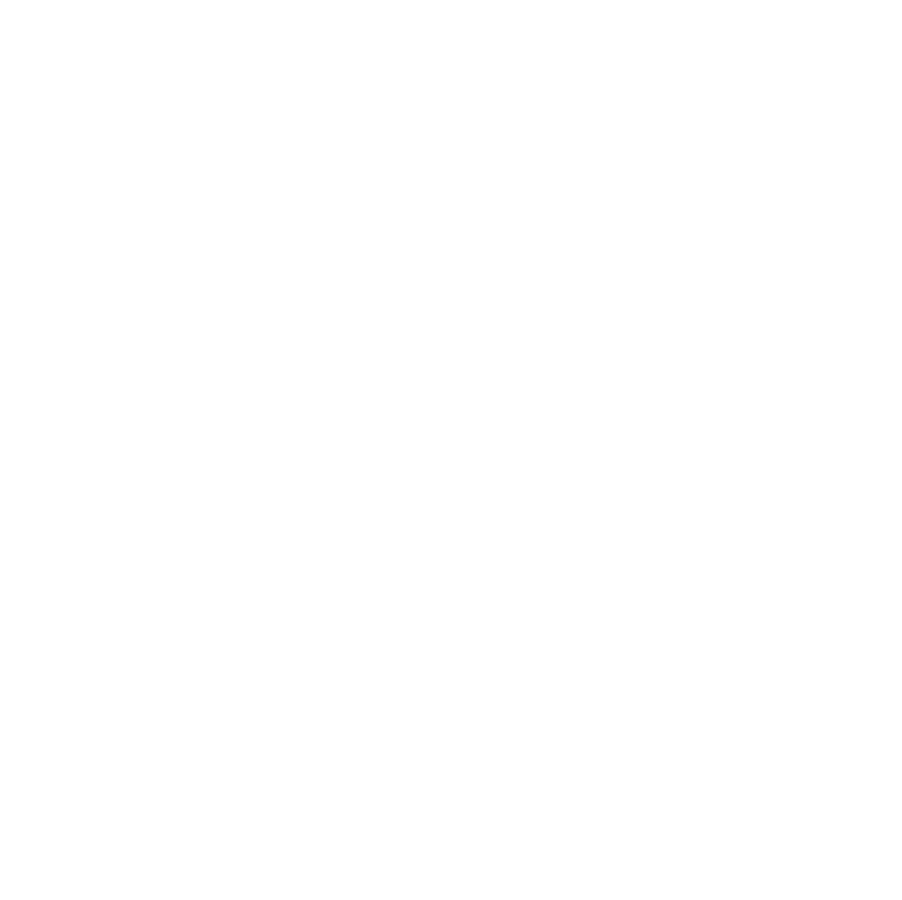было время...
Нудный Кемерово
Улётное лето: оттяг на высоте
Посвящается Екатерине Тарасовой
Нудисткий пляж, стихийно образовавшийся на крыше кафе «Льдинка» на проспекте Советском, 59а в середине 70-х годов, был местом, может быть, даже более секретным, чем архивы КГБ.
Благополучно существовал инкогнито при полном безразличии жильцов и неведении милиционеров. Доступ в подъезды жилых домов Кемерово в советское время был свободный – консьержи бдили только в нескольких домах на улице Арочной, где проживала партийная элита. Квартиры первых лиц партийного руководства области и города охранял круглосуточный пост милиции. Механические подъездные входные замки и домофоны появились гораздо позднее.
Крыша кафе «Льдинка», в отличие от других домов в центре Кемерово, плоская. В середине 1970-х в летние месяцы она была популярной среди студентов и хиппующей молодежи как нудистский пляж и место для расширения сознания.
Тихо исчез сам собой в середине 90-х, когда на дверях подъезда, открывающего путь к призрачной свободе, появился кодовый замок, да и интересы у поколения Х стали совсем другие.
Благополучно существовал инкогнито при полном безразличии жильцов и неведении милиционеров. Доступ в подъезды жилых домов Кемерово в советское время был свободный – консьержи бдили только в нескольких домах на улице Арочной, где проживала партийная элита. Квартиры первых лиц партийного руководства области и города охранял круглосуточный пост милиции. Механические подъездные входные замки и домофоны появились гораздо позднее.
Крыша кафе «Льдинка», в отличие от других домов в центре Кемерово, плоская. В середине 1970-х в летние месяцы она была популярной среди студентов и хиппующей молодежи как нудистский пляж и место для расширения сознания.
Тихо исчез сам собой в середине 90-х, когда на дверях подъезда, открывающего путь к призрачной свободе, появился кодовый замок, да и интересы у поколения Х стали совсем другие.
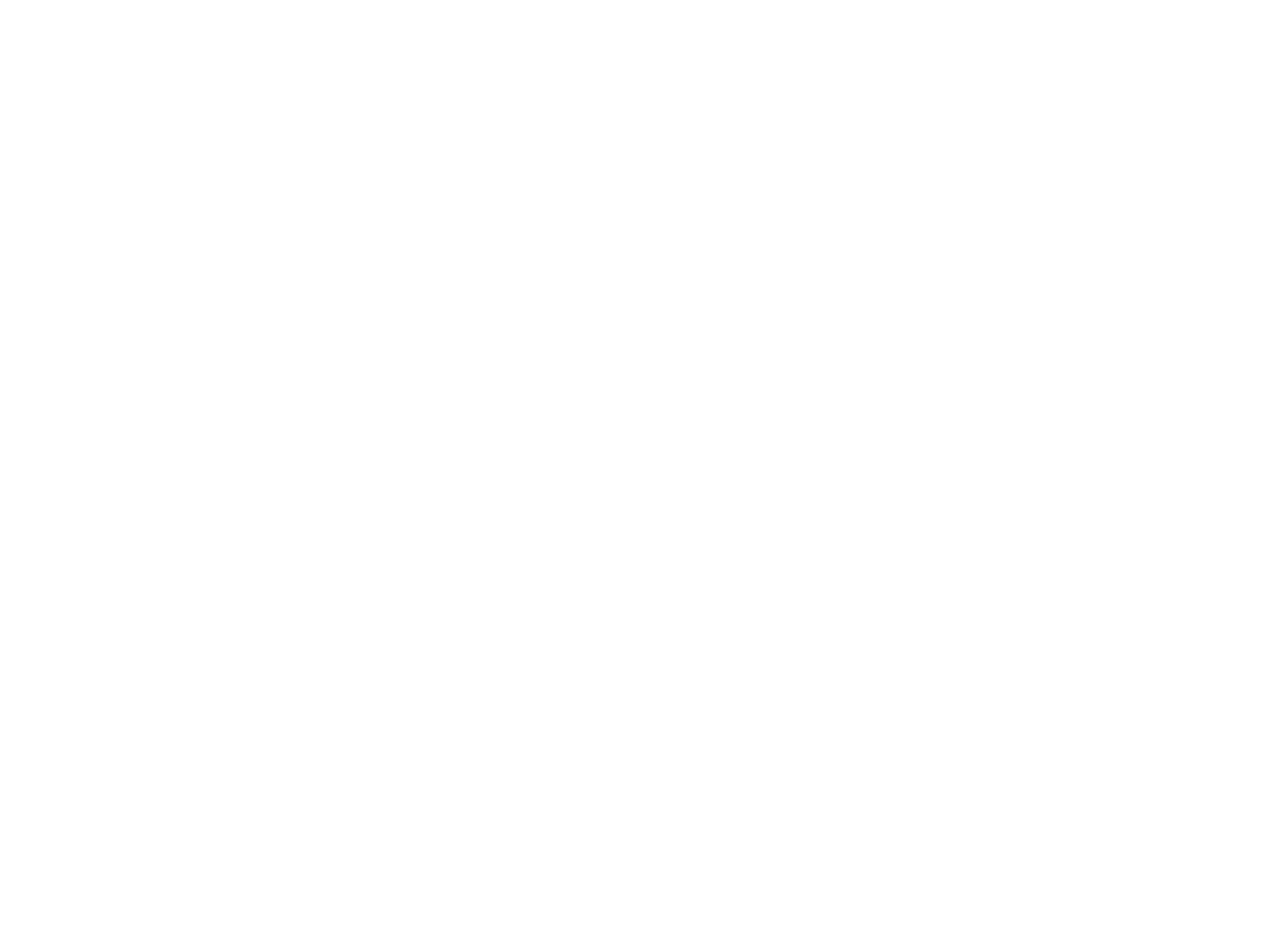
Центровые хиппари: Джон Леннон и Йоко Оно
Рассказывает Алиса К.:
"Я не была в Кемерово больше двадцати лет. В 1982 удачно вышла замуж за американца и уехала жить в США. Мой муж — успешный программист. Работает на OPI. У меня работа в фонде сохранения дикой природы. Мы любим друг друга. У нас всё "got it made" ( англ. — «всё схвачено» — . С.К.)
И вот я снова здесь. Семейные дела.
Вчера разбирала в гараже свои старые вещи и нашла студенческий дневник. Какая же я была дурочка!
Кемерово поменял лицо, но кое-где остались старые черты — как у человека, который располнел, но всё ещё узнаётся в прищуре глаз.
Кафе «Льдинка» давно закрылось. Сейчас на его месте просто ничего нет. Всё закрыто и заброшено, стекло, пластик и выцветшие баннеры. Советский проспект — как будто вымыт, выбрит и скучно пострижен. Но дом стоит. Тот самый, с плоской крышей. Подъезд, в который мы тогда просачивались, теперь с кодовым замком. Я улыбнулась — нашла соседку, разговорилась. Пожилая тётка со второго этажа всё ещё помнит "каких-то хиппующих бездельников в семидесятых, всё на нашу крышу лазили".
— Была молодая. Может, и сама лазила, — усмехнулась она и махнула рукой:
— Чердак открыт. На крышу по лестнице, аккуратнее там.
Я поднимаюсь наверх. Всё так же — лестница, перила облупленные. На последнем пролёте — какие-то ящики и коробки, но дверь на чердак всё ещё без замка. Удивительно. Будто время, споткнувшись, оставило щелочку для тех, кто помнит пароль.
Чердак теперь чище. Голубей меньше, пыли больше. И вот оно — слуховое окно. Я немного тяжеловата для акробатики, но всё-таки вытягиваюсь, прижимаюсь к обитому кровельным железом краю...
И я вылезаю.
На Льдину.
Снова.
На крыше — пусто. Только антенны, покосившиеся. Мусора чуть больше, чем тогда. Город раскинулся внизу, но как будто стал тише, глуше.
Я встаю на край. Тот самый, где когда-то танцевала голая, крутясь под «Falling in Love».
Смотрю вниз — и не страшно.
Не потому что хочу прыгнуть.
А потому что больше не боюсь того, что было и что не случилось.
Бурундука я больше не видела. Мы не писали, не звонили. Ни одной открытки, ни письма. Да и как бы он мне написал: "На деревню дедушке?"
Я уехала в Америку в 1982-м. Как Катька плакала — до сих пор помню. И как я тогда ещё подумала: "Скоро всё забудется. И Бурундук забудется."
Но вот я здесь. А он — всё ещё со мной.
"Я не была в Кемерово больше двадцати лет. В 1982 удачно вышла замуж за американца и уехала жить в США. Мой муж — успешный программист. Работает на OPI. У меня работа в фонде сохранения дикой природы. Мы любим друг друга. У нас всё "got it made" ( англ. — «всё схвачено» — . С.К.)
И вот я снова здесь. Семейные дела.
Вчера разбирала в гараже свои старые вещи и нашла студенческий дневник. Какая же я была дурочка!
Кемерово поменял лицо, но кое-где остались старые черты — как у человека, который располнел, но всё ещё узнаётся в прищуре глаз.
Кафе «Льдинка» давно закрылось. Сейчас на его месте просто ничего нет. Всё закрыто и заброшено, стекло, пластик и выцветшие баннеры. Советский проспект — как будто вымыт, выбрит и скучно пострижен. Но дом стоит. Тот самый, с плоской крышей. Подъезд, в который мы тогда просачивались, теперь с кодовым замком. Я улыбнулась — нашла соседку, разговорилась. Пожилая тётка со второго этажа всё ещё помнит "каких-то хиппующих бездельников в семидесятых, всё на нашу крышу лазили".
— Была молодая. Может, и сама лазила, — усмехнулась она и махнула рукой:
— Чердак открыт. На крышу по лестнице, аккуратнее там.
Я поднимаюсь наверх. Всё так же — лестница, перила облупленные. На последнем пролёте — какие-то ящики и коробки, но дверь на чердак всё ещё без замка. Удивительно. Будто время, споткнувшись, оставило щелочку для тех, кто помнит пароль.
Чердак теперь чище. Голубей меньше, пыли больше. И вот оно — слуховое окно. Я немного тяжеловата для акробатики, но всё-таки вытягиваюсь, прижимаюсь к обитому кровельным железом краю...
И я вылезаю.
На Льдину.
Снова.
На крыше — пусто. Только антенны, покосившиеся. Мусора чуть больше, чем тогда. Город раскинулся внизу, но как будто стал тише, глуше.
Я встаю на край. Тот самый, где когда-то танцевала голая, крутясь под «Falling in Love».
Смотрю вниз — и не страшно.
Не потому что хочу прыгнуть.
А потому что больше не боюсь того, что было и что не случилось.
Бурундука я больше не видела. Мы не писали, не звонили. Ни одной открытки, ни письма. Да и как бы он мне написал: "На деревню дедушке?"
Я уехала в Америку в 1982-м. Как Катька плакала — до сих пор помню. И как я тогда ещё подумала: "Скоро всё забудется. И Бурундук забудется."
Но вот я здесь. А он — всё ещё со мной.
“
Катька, моя одногруппница, позавчера спросила меня: “Пойдёшь кататься на льдине?” Я удивилась: “Это как? Июнь же месяц!” “Глупышка, это такое клёвое место в центре под самым носом у мусоров. Только свои, системные люди.”
На следующее утро, мы с ней встретились у Главпочтамта и пошли во дворы Советского.
Главным было незаметно просочиться в соседний с кафе “Льдинка” подъезд, как будто бы ты здесь живёшь. Потом мы тихонько поднялись по лестнице наверх до последнего этажа. Жильцов в этом подъезде было мало, и мы, к счастью, никого не встретили. Говорят, что какие-то бабки здесь обитают, но они — двухклеточные (две квартиры на одной лестничной площадке - С.К.), летом живут на дачах и в городе почти не светятся. Замка на чердачной двери не было. Мы тихонько приподняли щеколду и аккуратно проникли в “священный лес”. Прошли по чердаку, изрядно засранному голубями и через слуховое окно вылезли на крышу. Здравствуй, Льдина!
— Привет, пионерки! Смоком угостите? — улыбчивый черноволосый парень подбирал на гитаре аккорды к битловской Мишель, я протянула ему сигарету.
Познакомились. Это — Бурундук, так его здесь все зовут. Прикольный, я бы с ним потусила.
В тот день на Льдине было человек десять. Всё загорали без труселей. Клёво! В универе все так задвинуты на прикиде, что просто чума, только и думают где бы достать фирму покруче, а тут — естественная красота без лейблов.
Олдовых на крыше не было. Да, я думаю, олды уже давно только по флэтам сидят. Чё им за кайф тут своими сдутыми шариками друг перед другом трясти? Если бы на Льдине были какие-нибудь возрастные тёти, я бы напряглась, а так — все из одного флакона.
Да, кстати, дабла (туалет - С.К.) здесь нет. Если нужно по маленькому, то можно найти укромный уголок на чердаке. А по большому — беги в кусты.
Место здесь, конечно, реально тусовое, но светить им перед каждым встречным-поперечным нельзя, чтобы не запалить. Главное правило Льдины: не приводи кого попало. Некоторые, говорят, здесь даже найтят (найтить — провести ночь — С.К.) под звёздным небом. Если тебе повезло и тебя сюда вписали, то фильтруй кого френдить на Льдину, а кого не стоит, чтобы не обломать ништяки тусе. Я пока даже не знаю, кого из своей группы я бы сюда пригласила. Катьку? Так вот она — лежит рядом со мной, блистает, как греческая богиня, всеми своими красотами. Побрила всё, как на первое свидание.
У Uriah Heep только что вышел альбом “Fallen Angel” (12-й студийный альбом британской Uriah Heep вышел в свет в сентябре 1978, поэтому, скорее всего, Алиса пишет в своём дневнике летом 1979 года - С.К.), и мы улетали под него с какого-то задрипанного кассетника...
Я разделась под «Falling in Love», как будто сбрасывала с себя не шмотки, а все налипшие приличия, стереотипы, мамины наставления, завкафедровские нотации про моральный облик студентки. К черту — всё! Хочется по-настоящему — так, чтобы шершавый бетон впивался в кожу, чтобы солнце палило по соскам, чтобы курево на голодный желудок било прямо в лобные доли. Хочется без повода, без смысла, без расписания.
На мне остались только очки и пятка в руке.
Катька ржала, как ненормальная, когда я стала танцевать под музыку на краю крыши, крутясь, как сумасшедшая балерина. У меня даже была мысль — а что если шагнуть вперёд? Не чтобы разбиться, а чтобы вспорхнуть. Такой горячий, летящий момент, когда кажется, что ты — выше всего этого города, выше учебок, планов, долга, всей этой замуты. Что ты не кусок такого же говна, как всё вокруг.
— Алиса, ты долбанутая, — сказала мне Катька, утирая слёзы от смеха.
— Зато настоящая, — ответила я ей и плюнула вниз, на наш элитный заповедник — Советский проспект.
В ту секунду я была богиней. Ни один мужик, ни один препод, ни один мент не мог дотянуться до меня. Я была свободной, а это — самая редкая валюта в нашем мире.
Льдина стала моим порталом. Я не знала, что буду делать осенью, как сдам экзамены, кто я вообще в этой жизни. Но в тот момент мне было на всё это абсолютно плевать. Главное — лето, солнце, Льдина, кассетник и мы. Всё остальное — потом.
Он подошёл ко мне, когда солнце уже сползло с крыши, и мы лежали с Катькой, уставшие, как после оргии. Он принёс бутылку портвейна и два яблока.
— Ешь, богиня, яблоко, — сказал он, — только не заводи змея.
Я усмехнулась.
— У меня уже давно в животе сад змей. Все шипят и шевелятся.
— Тогда я буду Адамом. Голым и слегка под градусом.
Мы ушли за вентиляционный короб. Там была тень, кирпичная стена, ветер и тишина. Он сел, облокотился. Я — рядом. Так, чтобы плечо коснулось его руки. Спина в его ладони — горячая, как камень после полудня. Он медленно провёл пальцами по моей шее. Не торопясь. Будто читал на мне стихи по Брайлю.
— Ты странная.
— А ты сам-то нормальный?
— Я — потерянный. Но ты — та, кто может не дать мне пропасть.
Губы были терпкие от портвейна и соли. Всё это было не как в кино. Жарко, неловко, по-настоящему. Гвоздик впился мне в спину — и я рассмеялась.
— Что?
— Нас тут сейчас ворон увидит и упадёт в обморок от разрыва шаблона.
Мы не тра…лись в ту ночь. Мы просто лежали, прижавшись друг к другу. Он гладил мои волосы, а я слушала, как у него где-то там далеко стучит сердце.
Пока город сопел внизу, мы лежали на крыше, укрывшись тонкой плёнкой нашей любви и ворованной нежности. Слушали, как где-то вдалеке лает собака, как ветер играет бетонными краями. Он рассказал, как его отчислили с физфака. Как ушёл в самиздат и печатал на машинке "Контркультуру" на листах папиросной бумаги. Как однажды хотел сбежать в Индию, но у него даже паспорта не было.
— А ты? — спросил он.
— Я? Я просто хочу остаться собой. Хоть где-то. Хоть с кем-то.
На рассвете мы курили, сидя в обнимку. Ни один из нас не знал, будет ли «потом». Льдина не про это. Она не терпела планов, не уважала продолжений. Это место — для мгновений.
И если когда-нибудь, спустя годы, я снова услышу “Falling in Love”, я, может быть, усмехнусь. Может быть, заплачу. Но точно вспомню — этот взгляд, эти пальцы, бетонную прохладу под лопатками и город, раскинувшийся внизу, как декорацию к нашему с Бурундуком лету.
На следующее утро, мы с ней встретились у Главпочтамта и пошли во дворы Советского.
Главным было незаметно просочиться в соседний с кафе “Льдинка” подъезд, как будто бы ты здесь живёшь. Потом мы тихонько поднялись по лестнице наверх до последнего этажа. Жильцов в этом подъезде было мало, и мы, к счастью, никого не встретили. Говорят, что какие-то бабки здесь обитают, но они — двухклеточные (две квартиры на одной лестничной площадке - С.К.), летом живут на дачах и в городе почти не светятся. Замка на чердачной двери не было. Мы тихонько приподняли щеколду и аккуратно проникли в “священный лес”. Прошли по чердаку, изрядно засранному голубями и через слуховое окно вылезли на крышу. Здравствуй, Льдина!
— Привет, пионерки! Смоком угостите? — улыбчивый черноволосый парень подбирал на гитаре аккорды к битловской Мишель, я протянула ему сигарету.
Познакомились. Это — Бурундук, так его здесь все зовут. Прикольный, я бы с ним потусила.
В тот день на Льдине было человек десять. Всё загорали без труселей. Клёво! В универе все так задвинуты на прикиде, что просто чума, только и думают где бы достать фирму покруче, а тут — естественная красота без лейблов.
Олдовых на крыше не было. Да, я думаю, олды уже давно только по флэтам сидят. Чё им за кайф тут своими сдутыми шариками друг перед другом трясти? Если бы на Льдине были какие-нибудь возрастные тёти, я бы напряглась, а так — все из одного флакона.
Да, кстати, дабла (туалет - С.К.) здесь нет. Если нужно по маленькому, то можно найти укромный уголок на чердаке. А по большому — беги в кусты.
Место здесь, конечно, реально тусовое, но светить им перед каждым встречным-поперечным нельзя, чтобы не запалить. Главное правило Льдины: не приводи кого попало. Некоторые, говорят, здесь даже найтят (найтить — провести ночь — С.К.) под звёздным небом. Если тебе повезло и тебя сюда вписали, то фильтруй кого френдить на Льдину, а кого не стоит, чтобы не обломать ништяки тусе. Я пока даже не знаю, кого из своей группы я бы сюда пригласила. Катьку? Так вот она — лежит рядом со мной, блистает, как греческая богиня, всеми своими красотами. Побрила всё, как на первое свидание.
У Uriah Heep только что вышел альбом “Fallen Angel” (12-й студийный альбом британской Uriah Heep вышел в свет в сентябре 1978, поэтому, скорее всего, Алиса пишет в своём дневнике летом 1979 года - С.К.), и мы улетали под него с какого-то задрипанного кассетника...
Я разделась под «Falling in Love», как будто сбрасывала с себя не шмотки, а все налипшие приличия, стереотипы, мамины наставления, завкафедровские нотации про моральный облик студентки. К черту — всё! Хочется по-настоящему — так, чтобы шершавый бетон впивался в кожу, чтобы солнце палило по соскам, чтобы курево на голодный желудок било прямо в лобные доли. Хочется без повода, без смысла, без расписания.
На мне остались только очки и пятка в руке.
Катька ржала, как ненормальная, когда я стала танцевать под музыку на краю крыши, крутясь, как сумасшедшая балерина. У меня даже была мысль — а что если шагнуть вперёд? Не чтобы разбиться, а чтобы вспорхнуть. Такой горячий, летящий момент, когда кажется, что ты — выше всего этого города, выше учебок, планов, долга, всей этой замуты. Что ты не кусок такого же говна, как всё вокруг.
— Алиса, ты долбанутая, — сказала мне Катька, утирая слёзы от смеха.
— Зато настоящая, — ответила я ей и плюнула вниз, на наш элитный заповедник — Советский проспект.
В ту секунду я была богиней. Ни один мужик, ни один препод, ни один мент не мог дотянуться до меня. Я была свободной, а это — самая редкая валюта в нашем мире.
Льдина стала моим порталом. Я не знала, что буду делать осенью, как сдам экзамены, кто я вообще в этой жизни. Но в тот момент мне было на всё это абсолютно плевать. Главное — лето, солнце, Льдина, кассетник и мы. Всё остальное — потом.
Он подошёл ко мне, когда солнце уже сползло с крыши, и мы лежали с Катькой, уставшие, как после оргии. Он принёс бутылку портвейна и два яблока.
— Ешь, богиня, яблоко, — сказал он, — только не заводи змея.
Я усмехнулась.
— У меня уже давно в животе сад змей. Все шипят и шевелятся.
— Тогда я буду Адамом. Голым и слегка под градусом.
Мы ушли за вентиляционный короб. Там была тень, кирпичная стена, ветер и тишина. Он сел, облокотился. Я — рядом. Так, чтобы плечо коснулось его руки. Спина в его ладони — горячая, как камень после полудня. Он медленно провёл пальцами по моей шее. Не торопясь. Будто читал на мне стихи по Брайлю.
— Ты странная.
— А ты сам-то нормальный?
— Я — потерянный. Но ты — та, кто может не дать мне пропасть.
Губы были терпкие от портвейна и соли. Всё это было не как в кино. Жарко, неловко, по-настоящему. Гвоздик впился мне в спину — и я рассмеялась.
— Что?
— Нас тут сейчас ворон увидит и упадёт в обморок от разрыва шаблона.
Мы не тра…лись в ту ночь. Мы просто лежали, прижавшись друг к другу. Он гладил мои волосы, а я слушала, как у него где-то там далеко стучит сердце.
Пока город сопел внизу, мы лежали на крыше, укрывшись тонкой плёнкой нашей любви и ворованной нежности. Слушали, как где-то вдалеке лает собака, как ветер играет бетонными краями. Он рассказал, как его отчислили с физфака. Как ушёл в самиздат и печатал на машинке "Контркультуру" на листах папиросной бумаги. Как однажды хотел сбежать в Индию, но у него даже паспорта не было.
— А ты? — спросил он.
— Я? Я просто хочу остаться собой. Хоть где-то. Хоть с кем-то.
На рассвете мы курили, сидя в обнимку. Ни один из нас не знал, будет ли «потом». Льдина не про это. Она не терпела планов, не уважала продолжений. Это место — для мгновений.
И если когда-нибудь, спустя годы, я снова услышу “Falling in Love”, я, может быть, усмехнусь. Может быть, заплачу. Но точно вспомню — этот взгляд, эти пальцы, бетонную прохладу под лопатками и город, раскинувшийся внизу, как декорацию к нашему с Бурундуком лету.
Я достаю из сумки кассетник. Старый. Я нашла его на блошином рынке в Штатах, принесла в ремонт, и теперь он работает.
Вставляю кассету. Плёнка чуть замедленная, хрипловатая. И вот — голос Байрона, те самые аккорды.
“Falling in Love”.
Сажусь к вентиляционному коробу. Снимаю босоножки. Закрываю глаза. И на мгновение снова чувствую солнечное пятно на плече. Слышу Катькин смех.
И его пальцы — читающие по Брайлю мою шею.
Я — взрослая баба, у которой всё в жизни nice one! (англ. — жизнь удалась ! — С.К.) стою здесь — на краю света в Кемерово на крыше и реву.
Климакс, что ли?"
Вставляю кассету. Плёнка чуть замедленная, хрипловатая. И вот — голос Байрона, те самые аккорды.
“Falling in Love”.
Сажусь к вентиляционному коробу. Снимаю босоножки. Закрываю глаза. И на мгновение снова чувствую солнечное пятно на плече. Слышу Катькин смех.
И его пальцы — читающие по Брайлю мою шею.
Я — взрослая баба, у которой всё в жизни nice one! (англ. — жизнь удалась ! — С.К.) стою здесь — на краю света в Кемерово на крыше и реву.
Климакс, что ли?"
Hippy или Happy? А есть разница?Чтобы понять, откуда пошли хиппи, нужно задать себе один простой вопрос: а куда делись все эти занудные люди в костюмах из 50-х? Ответ: они выросли и родили детей. А дети, как водится, сделали всё наоборот. Родоначальники хиппи — это дети среднего класса, которым не хватало настоящих проблем. Родители дали им всё: еду, колледж, машину и психоаналитика. А они, в благодарность, сожгли лифчики, ушли в коммуну и начали с подозрительной настойчивостью целоваться с деревьями. Почему? Потому что если ты вырос в мире, где всё слишком хорошо, тебе срочно нужно всё испортить ради личного духовного роста. Сначала это были битники — интеллектуалы, которые пили вино и страдали красиво. Но хиппи решили: зачем столько думать, когда можно просто лежать на траве и чувствовать вибрации? Они отказались от работы, бритья, дезодорантов и здравого смысла. Они объявили любовь свободной, музыку психоделической, а еду — макробиотической. Мир, конечно, слегка прифигел. Итак, откуда пошли хиппи? Из глубокой усталости от цивилизации. Из желания быть свободными. Из непонимания, зачем бриться каждый день, если можно обниматься с незнакомками и незнакомцами. Они вышли из общества, чтобы построить лучшее — и построили шалаш. |
Летом 1985 года все в Кемерово чего-то ждали.
Пенсионеры — урожая картошки, мужики — когда в ларёк завезут свежего пива, а женщины — когда, наконец-то, дети уедут в пионерлагерь и можно будет впервые за лето посидеть в тишине. В воздухе витала "перестройка". Никто пока не понимал, как и что будем перестраивать, но чувствовалось: что-то сдвинулось.
А в это время на Льдине жизнь шла своей чередой. Там ничего не ждали — там существовали. Здесь никто не спрашивал "что дальше" — здесь просто были. Пили портвейн, курили «Беломор», играли на гитаре "Рок-н-ролл мёртв" загадочной ленинградской группы "Аквариум" и обсуждали почему у человека есть душа, а у государства — нет? Можно ли любить троих сразу, если любишь по-разному? Почему собаки смотрят в глаза, а декан — в ведомость? Кто такой БГ и существует ли свобода без электричества? Как выбраться из Кемерово, и нужно ли вообще отсюда выбираться?
Иногда спорили до хрипоты, иногда — молчали, уткнувшись лбом в какую-нибудь заумную книжку. И над этим никто не смеялся.
На Льдине жили как на краю — не географии, а привычного мира. И каждому здесь казалось: всё, что там внизу, — как минимум ненастоящее. А здесь — да. Грязное, немного вонючее, но честное до костей.
В тот день Эдик Мальцев по кличке "Мальчик" — известный в узких кемеровских кругах художник-недоучка подошёл к краю крыши, держа в вытянутой руке одинокий носок. Последним предметом одежды на нём в тот момент оставалась только беломорина в зубах.
Обращаясь к пиплам он изрёк:
— Товарищи по голому духу!
Сегодня мы собрались здесь не просто так.
Сегодня — день прощания
Бурундук поднял носок вверх, как знамя:
— Вот он — последний оплот цивилизации на моём бренном теле.
Великий и смиренный носок.
Посмотрите на него,
И не торопитесь смеяться.
Он воняет так, как будто бы знает про мою жизнь всё.
И, может быть, действительно знает.
Да, в нём дыра, сквозь которую видно небо над головой.
Да, он один.
Но разве мы не такие же?
Я прощаюсь с тобой, верный друг.
Ты слушал лекции по марксизму-ленинизму сквозь потёртые кеды,
Ты пережил три общаги, два похода и четыре несчастные любви.
И одно падение в реку.
Твой запах — не просто амбре.
Это хроника.
Это летопись.
Это дистиллят моего бытия.
Ты был на мне, когда Кухнарь выгнал меня с зачёта за серьгу в ухе.
Ты был на мне, когда я впервые был на ней.
Ты был на мне, когда она ушла от меня к Витьке. Навсегда.
Ты был на мне, когда я падал, вставал, и снова шёл, сам не зная куда.
И сегодня…
И сегодня я отпускаю тебя в вечность.
Прощай, носок.
Ты был грязен, ты был потерян, ты был один, но ты был настоящим.
Таким, как мы.
Тебя не стирали, но тебя любили.
Пусть ветер унесёт тебя туда, где нет деканатов,
Где менты не гасят хиппарей и хиппушек,
И где нет швов между телами и душами.
Пусть нам будет маза и мы снова встретимся. Обязательно встретимся.
На другой крыше мира, где нет напрягов и сапогов,
Мы с тобой оторвёмся по кайфу.
Может быть, ты снова станешь моим носком.
А, может быть, я стану твоей вонючей стелькой.
С этими словами Эдик разжал руку и носок улетел вниз, а он затянулся беломориной:
— А мы остаёмся здесь — на нашей льдине.
Здесь жарко и все мы — братья-сёстры.
Аминь, рок-н-ролл. Вдуем!
Крыша "зависла". Настала тишина, которую посмела нарушить только Лариска, восторженно глядя на Эдика:
— Вот это да… Я теперь не уверена, что мои сандалии вообще достойны быть обувью.
— Мальчик, ты наш Паганини. Сыграл на самых тонких струнах моей души! — воскликнул Саня Пастухов —"Пастух".
— Народ, он реально отпустил носок. Не метафорически. Настоящий носок. Со всеми запахами. Это же был ценнейший научный материал по изучению быта студентов... — сказала улыбаясь Анька-биолог. — Эдичка, зайка, иди ко мне, я тебя пожалею!
Пенсионеры — урожая картошки, мужики — когда в ларёк завезут свежего пива, а женщины — когда, наконец-то, дети уедут в пионерлагерь и можно будет впервые за лето посидеть в тишине. В воздухе витала "перестройка". Никто пока не понимал, как и что будем перестраивать, но чувствовалось: что-то сдвинулось.
А в это время на Льдине жизнь шла своей чередой. Там ничего не ждали — там существовали. Здесь никто не спрашивал "что дальше" — здесь просто были. Пили портвейн, курили «Беломор», играли на гитаре "Рок-н-ролл мёртв" загадочной ленинградской группы "Аквариум" и обсуждали почему у человека есть душа, а у государства — нет? Можно ли любить троих сразу, если любишь по-разному? Почему собаки смотрят в глаза, а декан — в ведомость? Кто такой БГ и существует ли свобода без электричества? Как выбраться из Кемерово, и нужно ли вообще отсюда выбираться?
Иногда спорили до хрипоты, иногда — молчали, уткнувшись лбом в какую-нибудь заумную книжку. И над этим никто не смеялся.
На Льдине жили как на краю — не географии, а привычного мира. И каждому здесь казалось: всё, что там внизу, — как минимум ненастоящее. А здесь — да. Грязное, немного вонючее, но честное до костей.
В тот день Эдик Мальцев по кличке "Мальчик" — известный в узких кемеровских кругах художник-недоучка подошёл к краю крыши, держа в вытянутой руке одинокий носок. Последним предметом одежды на нём в тот момент оставалась только беломорина в зубах.
Обращаясь к пиплам он изрёк:
— Товарищи по голому духу!
Сегодня мы собрались здесь не просто так.
Сегодня — день прощания
Бурундук поднял носок вверх, как знамя:
— Вот он — последний оплот цивилизации на моём бренном теле.
Великий и смиренный носок.
Посмотрите на него,
И не торопитесь смеяться.
Он воняет так, как будто бы знает про мою жизнь всё.
И, может быть, действительно знает.
Да, в нём дыра, сквозь которую видно небо над головой.
Да, он один.
Но разве мы не такие же?
Я прощаюсь с тобой, верный друг.
Ты слушал лекции по марксизму-ленинизму сквозь потёртые кеды,
Ты пережил три общаги, два похода и четыре несчастные любви.
И одно падение в реку.
Твой запах — не просто амбре.
Это хроника.
Это летопись.
Это дистиллят моего бытия.
Ты был на мне, когда Кухнарь выгнал меня с зачёта за серьгу в ухе.
Ты был на мне, когда я впервые был на ней.
Ты был на мне, когда она ушла от меня к Витьке. Навсегда.
Ты был на мне, когда я падал, вставал, и снова шёл, сам не зная куда.
И сегодня…
И сегодня я отпускаю тебя в вечность.
Прощай, носок.
Ты был грязен, ты был потерян, ты был один, но ты был настоящим.
Таким, как мы.
Тебя не стирали, но тебя любили.
Пусть ветер унесёт тебя туда, где нет деканатов,
Где менты не гасят хиппарей и хиппушек,
И где нет швов между телами и душами.
Пусть нам будет маза и мы снова встретимся. Обязательно встретимся.
На другой крыше мира, где нет напрягов и сапогов,
Мы с тобой оторвёмся по кайфу.
Может быть, ты снова станешь моим носком.
А, может быть, я стану твоей вонючей стелькой.
С этими словами Эдик разжал руку и носок улетел вниз, а он затянулся беломориной:
— А мы остаёмся здесь — на нашей льдине.
Здесь жарко и все мы — братья-сёстры.
Аминь, рок-н-ролл. Вдуем!
Крыша "зависла". Настала тишина, которую посмела нарушить только Лариска, восторженно глядя на Эдика:
— Вот это да… Я теперь не уверена, что мои сандалии вообще достойны быть обувью.
— Мальчик, ты наш Паганини. Сыграл на самых тонких струнах моей души! — воскликнул Саня Пастухов —"Пастух".
— Народ, он реально отпустил носок. Не метафорически. Настоящий носок. Со всеми запахами. Это же был ценнейший научный материал по изучению быта студентов... — сказала улыбаясь Анька-биолог. — Эдичка, зайка, иди ко мне, я тебя пожалею!
Кемерово. Суровая Родина
продолжение следует