быт и нравы кемеровчан
Внимание, снимаю пенку!
Химия негатива в умелых руках
Слово «бизнес», и как следствие массовое скопление денежных знаков в руках конкретных и вполне определённых граждан мутной наружности, пришло в жизнь Кемерово не 26 мая 1988 года, когда в Москве был принят давно назревший закон «О кооперации в СССР», а гораздо раньше.
Точнее говоря, "процесс пошёл" (знаковая фраза последнего Генерального секретаря ЦК КПСС и первого и единственного Президента СССР - Михаила Горбачева) с самого 1917-го, с первых шагов по стране советской власти. И дальше он никуда и не исчезал, а только крепчал и крепчал. Рядом с обычными советскими тружениками, которые жили от аванса до зарплаты, в стране почти победившего коммунизма незаметно существовали и богатые индивидуумы, и очень богатые и таланты, "откусившие" от пирога народного хозяйства очень-очень весомые "котлеты".
Как ни странно, советская власть, которая в учебниках по научному коммунизму убеждённо отрицала частную инициативу как двигатель прогресса, на доморощенных махинаторов смотрела не только "сквозь пальцы", а даже иронически участливо, как взрослые на расшалившихся ребятишек: "Подумаешь, не хотят работать на заводе 'от звонка до звонка'. Ну, бывает."
Вспомните хотя бы знаменитые комедии Леонида Гайдая. "Операция Ы" начинается с представления главных героев. Фильм вышел в 1965 году. Время уже не послевоенное, но многие советские люди всё ещё живут в крайней нищете. На зареченском колхозном рынке герой Георгия Вицина (Трус) торгует простынями с изображением русалок, Юрий Никулин (Балбес) продаёт сахарные петушки, а Евгений Моргунов (Бывалый) руководит антиобщественным "коллективом" и владеет персональным автомобилем: "Не шуми, я — инвалид." Образы обаятельных жуликов слеплены так, что вызывают у зрителя не злобу и неприязнь к подробностям их хорошо организованной "бесполезной" жизни, а, напротив, улыбку и чувство трогательной симпатии. Эти "трутни" — совсем не отрицательные герои, а милые прохвосты.
А наше "всё" - любимый Остап Ибрагимович Бендер? Роман "12 стульев" был опубликован в 1928 году сначала в журнале, затем отдельной книгой в 1938 году и попал под запрет на переиздание только в короткий период с 1948 по середину 50-х годов. Кто скажет, что Ося Бендер — это отрицательный персонаж?
Любимец женщин, романтик и мудрый руководитель группы вымогателей с зачатками большого педагога. Даже после крушения всех его планов на переход с золотым запасом через границу, он выходит "сухим из воды" и не отправляется по справедливости рыть Беломорканал, а находит себе очередное "тёплое место" — "переквалифицируется в управдомы". Где карающий меч государства? Где мораль, что "от каждого по способностям, каждому - по прокурору" и никто не уйдет безнаказанным? Ну разве можно после этого сказать, что советское государство было живодёром по отношению к духу предприимчивости?
Если вы покопаетесь в советской фильмотеке, то найдёте ещё немало примеров подобной лояльности к нетрудовым доходам и их "идеологам".
Точнее говоря, "процесс пошёл" (знаковая фраза последнего Генерального секретаря ЦК КПСС и первого и единственного Президента СССР - Михаила Горбачева) с самого 1917-го, с первых шагов по стране советской власти. И дальше он никуда и не исчезал, а только крепчал и крепчал. Рядом с обычными советскими тружениками, которые жили от аванса до зарплаты, в стране почти победившего коммунизма незаметно существовали и богатые индивидуумы, и очень богатые и таланты, "откусившие" от пирога народного хозяйства очень-очень весомые "котлеты".
Как ни странно, советская власть, которая в учебниках по научному коммунизму убеждённо отрицала частную инициативу как двигатель прогресса, на доморощенных махинаторов смотрела не только "сквозь пальцы", а даже иронически участливо, как взрослые на расшалившихся ребятишек: "Подумаешь, не хотят работать на заводе 'от звонка до звонка'. Ну, бывает."
Вспомните хотя бы знаменитые комедии Леонида Гайдая. "Операция Ы" начинается с представления главных героев. Фильм вышел в 1965 году. Время уже не послевоенное, но многие советские люди всё ещё живут в крайней нищете. На зареченском колхозном рынке герой Георгия Вицина (Трус) торгует простынями с изображением русалок, Юрий Никулин (Балбес) продаёт сахарные петушки, а Евгений Моргунов (Бывалый) руководит антиобщественным "коллективом" и владеет персональным автомобилем: "Не шуми, я — инвалид." Образы обаятельных жуликов слеплены так, что вызывают у зрителя не злобу и неприязнь к подробностям их хорошо организованной "бесполезной" жизни, а, напротив, улыбку и чувство трогательной симпатии. Эти "трутни" — совсем не отрицательные герои, а милые прохвосты.
А наше "всё" - любимый Остап Ибрагимович Бендер? Роман "12 стульев" был опубликован в 1928 году сначала в журнале, затем отдельной книгой в 1938 году и попал под запрет на переиздание только в короткий период с 1948 по середину 50-х годов. Кто скажет, что Ося Бендер — это отрицательный персонаж?
Любимец женщин, романтик и мудрый руководитель группы вымогателей с зачатками большого педагога. Даже после крушения всех его планов на переход с золотым запасом через границу, он выходит "сухим из воды" и не отправляется по справедливости рыть Беломорканал, а находит себе очередное "тёплое место" — "переквалифицируется в управдомы". Где карающий меч государства? Где мораль, что "от каждого по способностям, каждому - по прокурору" и никто не уйдет безнаказанным? Ну разве можно после этого сказать, что советское государство было живодёром по отношению к духу предприимчивости?
Если вы покопаетесь в советской фильмотеке, то найдёте ещё немало примеров подобной лояльности к нетрудовым доходам и их "идеологам".
“
— Как тебе не стыдно — обижаешь сиротку! У неё же кроме дяди и тёти никого нет... Двадцать пять!
— Это не правда! Это не правда, да! Я высоко ценю твою уважаемую племянницу... Но, всему есть предел, да!? Восемнадцать.
— Имей же совесть! Ты же всё-таки не козу получаешь, а жену! И какую!? Студентка, комсомолка, спортсменка... красавица! И за всё это я прошу Двадцать пять баранов! Даже смешно торговаться!
— Апа, апалитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации! Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово! Двадцать пять баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!
— А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
...
— В общем, так. Двадцать баранов…
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник «Розенлев». Финский, хороший. Почётная грамота.
— И бесплатная путёвка…
— В Сибирь!
— Это не правда! Это не правда, да! Я высоко ценю твою уважаемую племянницу... Но, всему есть предел, да!? Восемнадцать.
— Имей же совесть! Ты же всё-таки не козу получаешь, а жену! И какую!? Студентка, комсомолка, спортсменка... красавица! И за всё это я прошу Двадцать пять баранов! Даже смешно торговаться!
— Апа, апалитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации! Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово! Двадцать пять баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!
— А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
...
— В общем, так. Двадцать баранов…
— Двадцать пять.
— Двадцать, двадцать. Холодильник «Розенлев». Финский, хороший. Почётная грамота.
— И бесплатная путёвка…
— В Сибирь!
Кто-то пахал за зарплату в шахте и на заводе, а кто-то умел делать червонцы почти из воздуха. Причем не всегда преступным путём, а находил такие щелочки в законах и неудовлетворённых потребностях населения, которые и наполняли карманы умельца «сочной хрустящей капустой».
Вот, к примеру, фотография. В те уже далекие советские годы – в конце 80-х, в Кемерово успешно работала целая сеть государственных хорошо оборудованных фотоателье, в которых делали фото на документы, художественные портреты, групповые фотографии и эмалированные таблички на памятники.
Документировали жизнь человека с его первых шагов и до самого заката.
Была у кемеровчан такая мода – пойти и сняться на память по-семейному или компанией. Просто так. Съёмка велась на большой деревянный фотоаппарат, размером со внушительных размеров чемодан. Профессиональный фотоящик возвышался на трёх раздвижных дубовых ногах, которые были посредине оснащены черными эбонитовыми винтами для регулирования высоту расположения аппарата. Для каждого снимка фотограф тщательно выбирал положение аппарата до объекта съемки и высоту размещения. В некоторых ателье фотокамера ездила взад и вперёд по небольшому рельсу, прямо как в кино.
После этого наступал черёд расстановки фотовспышек, чтобы тени легли красиво и слегка одутловатые лица выглядели аппетитно и приятно взгляду.
Когда всё было готово, фотограф залезал под черную накидку, менял кассету с матовым стеклом на фотопластину и произносил магическое заклинание: «Сейчас вылетит птичка!». Всё улыбались в предвкушении удачного кадра. Птичка, конечно не вылетала, но почему-то было так принято говорить. Волшебство!
Технология той съемки ничуть не изменилась за прошедшие сто лет. Век назад всё было в точности так же, только для вспышки использовали магниевый порошок с хлоратом калия.
Поджигать порошок приходилось вручную, с использованием фитиля или длинной спички. Затвор открывался, срабатывала вспышка, затем затвор закрывался. И несмотря на то, что первые работающие образцы электрических вспышек появились в том же XIX веке, порошок активно использовался вплоть до 60-х годов XX века.
Эх, романтика! Студийные фотографии того советского времени отличаются высочайшей четкостью и детализированностью, поскольку делались не на плёнку, а на фотопластины – в размер будущего фото отпечатка. А сам поход в фотоателье был сродни походу в театр.
Казалось бы, всё в этой сфере услуг государством настроено-отлажено. Где тут та щель, которая позволит частнику сорвать свой куш и озолотиться?
А вот! Места нужно знать. И время.
Вот, к примеру, фотография. В те уже далекие советские годы – в конце 80-х, в Кемерово успешно работала целая сеть государственных хорошо оборудованных фотоателье, в которых делали фото на документы, художественные портреты, групповые фотографии и эмалированные таблички на памятники.
Документировали жизнь человека с его первых шагов и до самого заката.
Была у кемеровчан такая мода – пойти и сняться на память по-семейному или компанией. Просто так. Съёмка велась на большой деревянный фотоаппарат, размером со внушительных размеров чемодан. Профессиональный фотоящик возвышался на трёх раздвижных дубовых ногах, которые были посредине оснащены черными эбонитовыми винтами для регулирования высоту расположения аппарата. Для каждого снимка фотограф тщательно выбирал положение аппарата до объекта съемки и высоту размещения. В некоторых ателье фотокамера ездила взад и вперёд по небольшому рельсу, прямо как в кино.
После этого наступал черёд расстановки фотовспышек, чтобы тени легли красиво и слегка одутловатые лица выглядели аппетитно и приятно взгляду.
Когда всё было готово, фотограф залезал под черную накидку, менял кассету с матовым стеклом на фотопластину и произносил магическое заклинание: «Сейчас вылетит птичка!». Всё улыбались в предвкушении удачного кадра. Птичка, конечно не вылетала, но почему-то было так принято говорить. Волшебство!
Технология той съемки ничуть не изменилась за прошедшие сто лет. Век назад всё было в точности так же, только для вспышки использовали магниевый порошок с хлоратом калия.
Поджигать порошок приходилось вручную, с использованием фитиля или длинной спички. Затвор открывался, срабатывала вспышка, затем затвор закрывался. И несмотря на то, что первые работающие образцы электрических вспышек появились в том же XIX веке, порошок активно использовался вплоть до 60-х годов XX века.
Эх, романтика! Студийные фотографии того советского времени отличаются высочайшей четкостью и детализированностью, поскольку делались не на плёнку, а на фотопластины – в размер будущего фото отпечатка. А сам поход в фотоателье был сродни походу в театр.
Казалось бы, всё в этой сфере услуг государством настроено-отлажено. Где тут та щель, которая позволит частнику сорвать свой куш и озолотиться?
А вот! Места нужно знать. И время.
Дело было так.
В советских детсадах и школах существовала традиция - делать по окончании каждого учебного года коллективное фото всего класса, где в центре величественно восседала классная руководительница или воспитательница, а вокруг неё группировались повзрослевшие за год птенцы.
Отдельное дело – выпускные классы. А это были восьмой и десятый. Там традицией была уже не просто групповая фотография, а целый фотоальбом, с фотографиями всех учителей, включая трудовика и физкультурника, завучей и директора школы в придачу.
Строго говоря, такие фото любили делать и в вузах, и в техникумах, и на предприятиях - везде, но для нашей истории это примеры нетипичные, поэтому мы их опустим.
Так вот, сделать такое ежегодное групповое фото класса можно было в фотоателье, на что и шли в романтическом порыве некоторые самые юные восторженные классные руководительницы, ещё не разочарованные суровыми буднями педагогики, но таких было немного.
Обычно же, утомлённой всем и всеми классной не очень-то хотелось тратить своё личное время на организацию похода «буйного стада» в фотоателье и там страдать: «Где Петров? Где Синичкина?»
А в детских садах ещё было принято делать и групповые фото под Новый год, когда девочки-снежинки искрились на фоне мальчиков-зайчиков.
И тут, в эти майские дни, как неизбежное цветение черемухи перед заморозками, появлялись они – немного «потёртые» невзрачные дяденьки, которые предлагали произвести съемку прямо здесь на месте - в школе, а фотографии потом они принесут тоже прямо сюда - в школу. Как вы понимаете, размер охвата этого весеннего «покоса» был фантастическим.
С каждого такого заказа услужливый фотограф имел до 15 рублей «чистыми». А долгие годы «фото-жатвы» и налаженные дружеские отношения с учителями и воспитательницами делали каждую весну прямо-таки старательским конвейером. Если на защищенную территорию пытался «прописаться чужак», то его отшивали: «У нас дядя Валера снимает».
Качество этих «самопальных» фото было, конечно, несравнимо со студийными. Съемка велась на простую «зеркалку», или, в лучшем случае, на широкоплёночный аппарат типа «Москва». Фоном со всех сторон лезли классные «декорации», но что делать - «лень-матушка», она, говорят, родилась раньше всех.
В назначенный день съемки, отличницы приходили в белых накрахмаленных фартуках с большими бантами на свежевымытых головах, а «камчатка» как всегда в несвежих синих пиджачках и в пионерских галстуках с обгрызенными концами, как будто бы их корова жевала. Из парт и стульев у шоколадной грифельной доски сооружались «баррикады», на которые сейчас и начнут располагать класс для ежегодного отчётного фото.
В центре – классная руководительница во всей красе с накрученными кудрями. Нарядных отличниц классная садила рядом с собой, как надежду и опору, ну а далее можно было легко выстроить карту её симпатий по удалённости персонажей. «Камчатка» традиционно занимала самый верхних ярус и расползалась по краям снимка. Ещё нужно было не забыть "черезполосицу" – мальчик –девочка, но опрятных мальчиков, как правило, не хватало, поэтому приходилось идти на компромисс: две девочки – один мальчик.
Ну всё, вроде всех расставили. Фотограф говорил и здесь дежурное про птичку. Готово!
А вы говорите, «хочешь много денег – иди работать на шахту».
В советских детсадах и школах существовала традиция - делать по окончании каждого учебного года коллективное фото всего класса, где в центре величественно восседала классная руководительница или воспитательница, а вокруг неё группировались повзрослевшие за год птенцы.
Отдельное дело – выпускные классы. А это были восьмой и десятый. Там традицией была уже не просто групповая фотография, а целый фотоальбом, с фотографиями всех учителей, включая трудовика и физкультурника, завучей и директора школы в придачу.
Строго говоря, такие фото любили делать и в вузах, и в техникумах, и на предприятиях - везде, но для нашей истории это примеры нетипичные, поэтому мы их опустим.
Так вот, сделать такое ежегодное групповое фото класса можно было в фотоателье, на что и шли в романтическом порыве некоторые самые юные восторженные классные руководительницы, ещё не разочарованные суровыми буднями педагогики, но таких было немного.
Обычно же, утомлённой всем и всеми классной не очень-то хотелось тратить своё личное время на организацию похода «буйного стада» в фотоателье и там страдать: «Где Петров? Где Синичкина?»
А в детских садах ещё было принято делать и групповые фото под Новый год, когда девочки-снежинки искрились на фоне мальчиков-зайчиков.
И тут, в эти майские дни, как неизбежное цветение черемухи перед заморозками, появлялись они – немного «потёртые» невзрачные дяденьки, которые предлагали произвести съемку прямо здесь на месте - в школе, а фотографии потом они принесут тоже прямо сюда - в школу. Как вы понимаете, размер охвата этого весеннего «покоса» был фантастическим.
С каждого такого заказа услужливый фотограф имел до 15 рублей «чистыми». А долгие годы «фото-жатвы» и налаженные дружеские отношения с учителями и воспитательницами делали каждую весну прямо-таки старательским конвейером. Если на защищенную территорию пытался «прописаться чужак», то его отшивали: «У нас дядя Валера снимает».
Качество этих «самопальных» фото было, конечно, несравнимо со студийными. Съемка велась на простую «зеркалку», или, в лучшем случае, на широкоплёночный аппарат типа «Москва». Фоном со всех сторон лезли классные «декорации», но что делать - «лень-матушка», она, говорят, родилась раньше всех.
В назначенный день съемки, отличницы приходили в белых накрахмаленных фартуках с большими бантами на свежевымытых головах, а «камчатка» как всегда в несвежих синих пиджачках и в пионерских галстуках с обгрызенными концами, как будто бы их корова жевала. Из парт и стульев у шоколадной грифельной доски сооружались «баррикады», на которые сейчас и начнут располагать класс для ежегодного отчётного фото.
В центре – классная руководительница во всей красе с накрученными кудрями. Нарядных отличниц классная садила рядом с собой, как надежду и опору, ну а далее можно было легко выстроить карту её симпатий по удалённости персонажей. «Камчатка» традиционно занимала самый верхних ярус и расползалась по краям снимка. Ещё нужно было не забыть "черезполосицу" – мальчик –девочка, но опрятных мальчиков, как правило, не хватало, поэтому приходилось идти на компромисс: две девочки – один мальчик.
Ну всё, вроде всех расставили. Фотограф говорил и здесь дежурное про птичку. Готово!
А вы говорите, «хочешь много денег – иди работать на шахту».
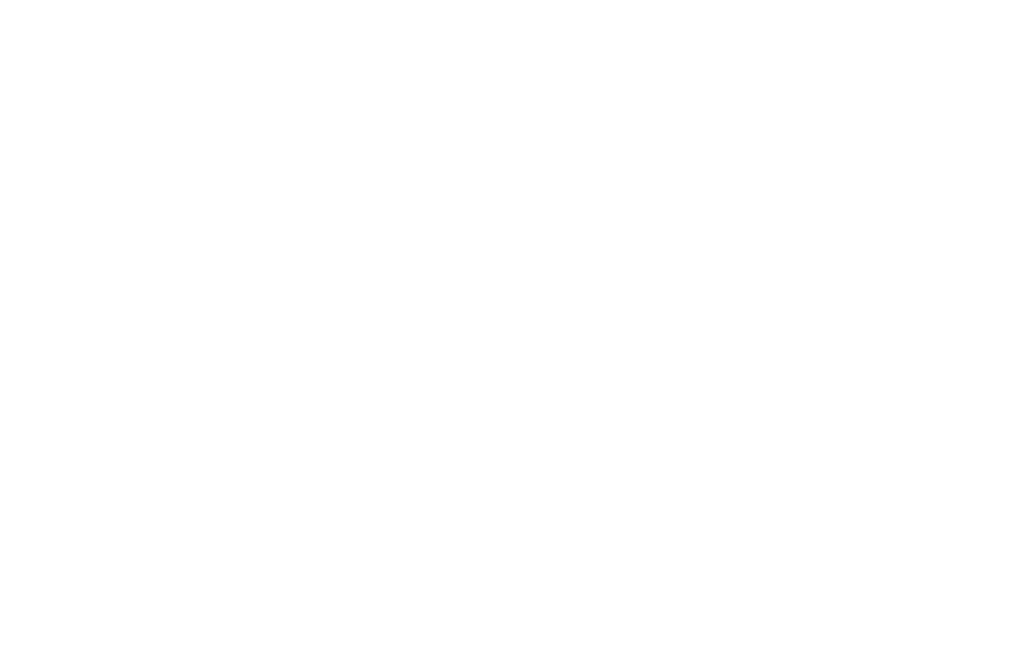
А вот Алексей Петрович Крошкин был не такой. Он был – настоящий фотохудожник. «Поэт» своего дела.
Именно поэтому его и поставили директором одного из самых видных фотоателье в Кемерово - на проспекте Советском, 51-а - напротив кафе «Жаворонок».
22 января 1992 г. на пороге его кабинета неожиданно появилось два серьёзных человека, один из которых, взмахнув перед его лицом на мгновение красными корочками, произнёс:
– Алексей Петрович, нам есть с вами о чём поговорить. Да вы не волнуйтесь, разговор у нас будет долгий.
Именно поэтому его и поставили директором одного из самых видных фотоателье в Кемерово - на проспекте Советском, 51-а - напротив кафе «Жаворонок».
22 января 1992 г. на пороге его кабинета неожиданно появилось два серьёзных человека, один из которых, взмахнув перед его лицом на мгновение красными корочками, произнёс:
– Алексей Петрович, нам есть с вами о чём поговорить. Да вы не волнуйтесь, разговор у нас будет долгий.
Кемерово. Суровая Родина
Полюбите Кемерово
за один день
за один день
